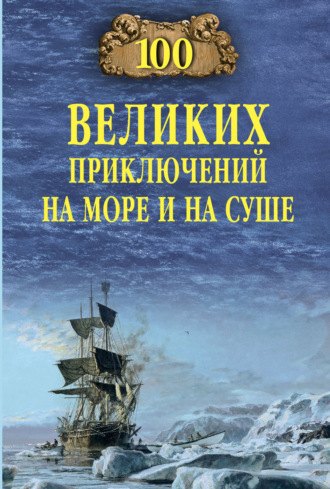
100 великих приключений на море и на суше
– Хороша печать?
Чиновник взял в руки газету, с уважением спросил:
– Это про вас все написано?
– Все про нас. И тут еще написано, что за все препятствия спрос будет очень строгий.
Путешествия закончились, но приключения продолжались. Физмат Петербургского университета. Научные работы, доклады и сообщения в изданиях РГО, статьи в газетах – высокая оценка в ученом мире. Золотая медаль РГО за отчет об Олекминско-Витимской экспедиции.
Революционная деятельность. Изучение политических идей. Анархизм.
В нашем расхожем представлении анархист – это полупьяный матрос с маузером в одной руке, с черным знаменем в другой, с бомбой за поясом: «Анархия – мать порядка». Кропоткин полагал анархизм передовой теорией, полностью отвечающей интересам трудящихся масс. Равенство, отсутствие угнетения со стороны капитала, бюрократии, государства. «Свобода каждого есть условие свободы всех». Особо подчеркивал: анархия есть нечто большее, чем способ действия или идеал свободного общества, это, кроме всего, философия, как природы, так и общества.
Впрочем, это не наша тема, хотя поиски истины тоже есть своего рода увлекательные приключения.
После Сибири Кропоткин (по А.И. Герцену) живет «во все стороны». Учеба, научная и революционная деятельность, заседания в Географическом обществе, долгие часы в Публичной библиотеке, научные изыскания в области истории и биологии, географии и биологии, общественных знаний, революционная деятельность, светские развлечения. Обобщает материалы Сибирских экспедиций. Начинает исследование причин и характера «великого оледенения» в Европе. И продолжает его уже в Петропавловской крепости.
Начались приключения иного рода и свойства, не менее трудные и опасные.
Нелегальный кружок «чайковцев». Арест. Обвинение: «Принадлежность к тайному сообществу, имеющему цель ниспровергнуть существующую форму правления, и в заговоре против св. особы ЕИВ».
Одиночная камера, допросы. Чтение, научная работа, ежедневные семь верст по камере и гимнастика с тяжелой табуреткой. Дух не сломлен, но силы истощались. Цинга, недостаток свежего воздуха: прогулки по 15 минут через два дня на третий.
Следствие тянется уже два года. За это время в крепости покончили с собой несколько заключенных, многие сошли с ума, скончались от чахотки. Здоровье все хуже и хуже. Старый солдат-часовой пожалел: «Не дожить тебе, сердечному, до осени».
Тюрьма при военном госпитале. Стал поправляться и крепнуть. Мысли о побеге. Друзья и соратники на воле сделали все для этого. Было много планов – серьезных и курьезных. Один из них: в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, два товарища подползут к ней и опрокинут – солдат окажется в мышеловке, а Кропоткин тем временем выпрыгнет в окно, заранее подпилив решетку.
Неожиданно один из солдат шепнул:
– Проситесь на прогулку!
Князь понял, что ему нужно ознакомиться с обстановкой в тюремном дворе – где и какая охрана, где калитка и ворота. И не ошибся. Через несколько дней какая-то дама передала для князя Кропоткина карманные часы. В них находилась крохотная шифровка с планом побега.
Побег состоялся. На прогулке Кропоткин скинул тюремный балахон и бросился в ворота. Растерявшиеся солдаты – за ним, один из них несколько раз пытался достать беглеца винтовочным штыком, но не сумел. Кропоткин прыгнул в пролетку, где сидел «офицер» с обнаженным револьвером, и великолепный призовой рысак, специально для этого купленный, взял с места галопом. Крики, выстрелы! Но только их и видели! Караульный офицер остановил конку и приказал кондуктору отпрячь одну из лошадей, чтобы верхом догнать пролетку. Кондуктор отказался, офицер не настаивал. Побег блестяще удался.
Через несколько времени снабженный чужим паспортом Кропоткин через Финляндию переправился в Швецию. Начались его скитания в эмиграции.
Англия, Швейцария, снова Англия, Франция… Четыре с лишним года в тюрьме по делу анархистов. И опять Англия.
1917 год. Возвращение в Россию, уже в другую, «не по милости монарха, а по воле русского народа», после сорокалетия на чужбинах. Торжественная встреча, многотысячная толпа, дамы с цветами, министры Временного правительства, черные знамена анархистов, почетный караул офицеров Семеновского полка, оркестр, пламенные речи…
Кто же все-таки он, князь Кропоткин? Пламенный революционер, искатель приключений, самоотверженный ученый? Некорректные вопросы. Каждый настоящий ученый, по сути, есть революционер. Завершив одну из своих работ, он произнес знаменательные слова: «В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий». Самое прекрасное приключение!
Это Кропоткин сказал, когда его логические умозаключения безупречно подтвердились экспедицией австрийцев, открывших землю, которая фактически уже была им открыта.
Юлиус Пайер. Приключения на «Тегеттгофе»
Российское правительство отказалось от исследований области Ледовитого океана к северо-востоку от Новой Земли. Эту задачу первыми начали решать иностранцы.
Экспедицию возглавили лейтенант австрийского флота Юлиус Пайер (1842–1915) и Карл Вейпрехт. Они вышли в море в июне 1872 г. на деревянном пароходе «Тегеттгоф» с запасами продовольствия на три года. Это обычная практика в таких экспедициях, продолжительность которых предусмотреть невозможно – запасы делаются с двойным и даже с тройным перекрытием.
Тот год в Баренцевом море выдался крайне «ледовитым». Уже в августе судно было затерто льдами. Навсегда.
Два года длился этот безвольный, изнурительный для людей и судна дрейф по прихоти льдов, ветра, течений. С наступлением полярной ночи обрушились на пароход зимние шторма, беспощадно сдавливающие льды. Непрерывный грохот льда и треск корпуса. Нередко громадные льдины заползали или обрушивались на палубу. Четыре с лишним месяца люди жили в постоянной тревоге, в ожидании гибели судна, каждую минуту готовые его покинуть, высадиться на лед.
К весне «Тегеттгоф» находился уже много севернее Новой Земли, в водах, которые до них еще не посещались человеком.
Наступило и закончилось лето, не оставив надежды на освобождение ото льда. Зато принесло открытие. Ради таких мгновений и переносят люди небывалые трудности, жертвуя здоровьем и жизнью.
– Земля!
Предположение Кропоткина о существовании неизвестной земли на севере Баренцева моря блестяще подтвердилось. Событие произошло 30 августа 1873 г.
Что это была за земля, отметил Пайер: «суша, состоящая только из снега, голых скал и смерзшихся камней… На земле едва ли мог существовать более печальный и безнадежный уголок… Но нам он казался настоящим раем».
Нисколько не умаляя заслуг открывателей, заметим только то, что оно в какой-то степени было случайным, по воле волн и ветра. Теоретическое же открытие этой земли было сделано на основе долгого, тщательного, рационального научного труда.

Юлиус Пайер в одежде полярника
Обследовать открытую землю не скоро пришлось – следовало ждать четыре месяца до истечения черной полярной ночи.
Вновь потянулись однообразные дни. Усилилась цинга, потеряли одного человека. Начали излечиваться медвежатиной – добыли почти семьдесят белых медведей.
Начались санные экскурсии при пятидесятиградусном морозе, ночами мерзли в палатках. Собак было только три, груженые сани тащили люди. Добрались до северной точки новой земли. По пути собирали образцы горных пород, изучали строение островов и покрывающих их ледников, знакомились с животной жизнью архипелага, заснимали и положили землю на карту. Впоследствии, многими годами позже, выяснилось, что это удалось не точно. Пайер был уверен, что Земля Франца-Иосифа есть два больших массива суши, разделенных проливом. Не заметив, что это архипелаг из семидесяти крупных островов и без счета маленьких.
Во время перехода по одному из ледников каюр с собаками провалились в трещину, заметенную снегом. Пайер помчался в лагерь за веревкой, вернулся через четыре с половиной часа, с помощником. В глубине трещины была зловещая тишина.
Но, к счастью, обошлось. Каюр и собаки задержались в падении на выступе, на глубине двенадцати метров. Вытащили почти замерзшего каюра и всех трех собак.
Между тем стало ясно, что «Тегеттгоф» скован льдами навечно, и выбраться людям из ледяной ловушки можно только добравшись на шлюпках до Новой Земли, где есть надежда встретить русских промышленников.
Шлюпки поставили на сани, загрузили продовольствием (две с половиной тонны) и снаряжением (две тонны). Каждые сани должны были тащить по снегу и льду по пять человек.
В конце мая 1874 г. экипаж простился с судном. Начался неимоверно тяжкий и практически напрасный труд. Предстояло пройти не меньше 250 миль. За первый месяц преодолели милю с четвертью. Позади все еще виднелись мачты покинутого судна. А третья часть продовольствия уже была израсходована. Южные встречные ветры относили лед назад, к северу, с той же скоростью, с какой люди тащили сани к югу.
Через два месяца пути по льдам, мокрому снегу и редким разводьям отошли от судна на… 15 миль. Представлялось наиболее разумным и спасительным – вернуться к пароходу. Отказались от этого из-за опасения не найти его во льдах – тут уж верная гибель.
В минуту отчаяния льды начало разводить, появилась возможность идти на шлюпках, правда, периодически вытаскивая их на льдины и снова тащить на себе.
Но вот в середине августа показалась кромка льдов, а за ней безграничная ширь открытого моря. Пайер записал: «Мы вышли из темной, холодной гробницы для новой жизни». А вот что он написал чуть ниже: «Но, несмотря на всю безумную радость…все же мы не могли без боли подумать о том, что нам теперь навсегда предстоит проститься с застывшим полярным царством, с царством льдов, которые сверкали позади нас во всей ослепительной красоте».
В. Визе к этому добавил: «Полярные страны властно влекут к себе человека, раз побывавшего в них, даже если это пребывание было связано с тяжелыми лишениями». Очарование Севером велико и непреодолимо.
Пошли на шлюпках вдоль западной кромки Новой Земли. Продовольствия оставалось на десять дней. А сил на сколько?..
На южном острове Новой Земли в конце августа 1874 г. увидали две русские промысловые шхуны. «Разместившись на судне “Николай”, обогрелись и ожили».
Да, нелегко дается людям Север.
И еще одно «приключение» экипажа «Тегеттгофа», о котором он, надеемся, не узнал. Один норвежский ученый утверждал в 1930 г., что архипелаг Франца-Иосифа открыт не австрийцами, а норвежскими промышленниками в 1865 г. Это утверждение совершенно неосновательно «и даже не может служить объектом исторических спекуляций».
Вернемся, однако, как замечал В. Визе, «на многие тысячи лет назад».
В священных свитках древних индусов (6–7 тысяч лет до н. э.) тоже говорится о полярной ночи и полярном дне. В священной книге персов описывается некая страна, где зима длится десять месяцев, а лето – только два; и «год здесь кажется как один день и одна ночь». Последнее замечание просто… замечательно: на полюсе, как нам известно, ночь и день длятся по полугоду. И ясно каждому, что эти древнейшие сведения не могут быть измышлениями, плодами народной фантазии, а отражают вполне конкретные знания. В Гомеровой «Одиссее» есть строки о “стране туманов, возле океана, в бесконечной и безотрадной ночи”».
Пифей. «Наихудший лжец»?
Очень древний грек Пифей Массалиот (ок. 380 – ок. 310 до н. э.) был очарован Севером. Так говорили о нем его современники, это отмечали историки наших дней. «Он одержим космической тайной Севера… Его не оставляло наваждение Севера».
Надо сказать, это наваждение в античные времена было едва ли не всеобщим. В нем удачно сочетались практический интерес, мистика и фантастика, мифы и легенды.
Пифей, первый исследователь Северной Европы и Арктики, – небогатый купец, морской торговец.
Однако следует заметить, что именно купцы с самых дальних времен, с изначальной своей деятельности – это отважные и пытливые путешественники. Им все надо заметить, понять и изучить, запомнить и знать – «где какая рыба и почем; за каким морем телушка – полушка».
Самые первые и разносторонние сведения о дальних странах и неведомых народах доставляли из своих плаваний и пеших хождений именно купцы. Такие люди, обладающие огромным интеллектуальным любопытством, влечением к неизведанному и неизвестному, двигали вперед познание мира, связывали страны и вносили новое в быт и культуру народов.
Пифей наряду с этими качествами был дерзким и отважным, но осторожным и рассудительным мореплавателем, а главное – выдающимся географом, астрономом, естествоиспытателем.
Он первым побывал у Полярного круга, которого тогда еще не было, первым сообщил миру о Ледовитом океане. Первым описал полярный день и полярное сияние. Рассказал в своих путевых записях о «морских легких» и «свернувшемся море» – так образно, с его легкого слова, стали называть и называли вплоть до средних веков море, покрытое льдом.
Он настолько живо и ярко описал все увиденное в плавании, сделал такие опережающие его время выводы, что ему не поверили тогда и не верили долгие века, подвергая сомнениям не только им рассказанное, но и само его путешествие.
В свое великое плавание Пифей отправился в 325 г. до н. э. из Массалии (нынешний Марсель) отыскать по поручению и предложению, так сказать, местной администрации и купеческого сообщества выгодные морские пути в страны «олова и янтаря» с тем, чтобы разорвать монополию атлантической коммерции карфагенян. Олово и янтарь попадали в Средиземноморье через третьи руки, и обмен их на железо был не очень выгоден. Требовались, как сейчас сказали бы, прямые связи с поставщиками.
Надо сказать, что мотивы древних мореплавателей имели преимущественно коммерческий характер; наука и географические открытия носили характер случайный, были целью побочной. И нередко пытливые мореплаватели скрывали свои устремления к познаниям новых морей, земель и народов. Тот же Колумб, как позже стало известно, стремился не столько за землями, пряностями и золотом для испанской короны, сколько за славой первооткрывателя.

Маршрут плавания Пифея
У Пифея кроме экономической, так сказать, программы была и широкая научная. Но на пути ее решения предстояло многое преодолеть.
Первое приключение – без потерь пройти Гибралтар, надежно закрытый дозорными судами и береговой стражей Карфагена для прохождения чужеземными мореходами.
Экспедиция Пифея состояла из двух парусно-гребных галер – торговых, а не боевых. Вместительные, широкобортные, прочные и надежные, они в то же время имели меньший ход, чем суда военные. Поэтому расчетливый Пифей выждал темную ночь с попутным ветром, чтобы не плескать веслами, не скрипеть ими в уключинах, и проскользнул в Атлантику, рискуя своими судами, товаром, свободой, а то и жизнью. Взяв курс сперва на запад, пошел потом на север, вдоль побережья – в открытый океан в те давние годы еще ходить не решались. Да и незачем было.
Долгое время галеры шли скрытно, избегая встреч с судами финикийцев и карфагенян, в отдалении от берегов, но не теряя их из виду. Шли пока известным «оловянным путем».
Устье Луары (г. Карбилон), полуостров Бретань, юго-западная оконечность туманного Альбиона. Здесь Пифей закупил олово и, загрузив его на одну из своих галер, отправил в Карбилон, продолжив путь вдоль западных берегов Англии. В опасную неизведанность. Приключение за приключением, открытие за открытием.
От Северной Шотландии Пифей совершил свое беспримерное плавание в загадочную страну Туле. Кажется, до наших дней нет ясности, какая это страна – Норвегия, Гренландия, Скандинавия? Скорее всего – Исландия.
Здесь южных мореплавателей повергли в смятение необыкновенная стужа, невиданные ранее льды, густо-молочные туманы и то самое «свернувшееся море».
Пифей был отважен, но осмотрителен. Описав увиденное и посчитав, что здесь, к северу от Туле, кончалась доступная человеку среда, он решил вернуться в Массалию. И правильно сделал, иначе, вполне возможно, мир лишился бы его великих открытий – из тех, что движут вперед познания человечества.
Пифей писал: здесь ни земля, ни вода, ни воздух не существуют раздельно, а в своего рода смеси, наполняющей «морские легкие».
Что это такое, не установлено учеными и историками до сей поры. Загадка и ныне. Тонкий колышущийся лед, мерно шуршащий на воде, словно дышит спящий сказочный гигант, властитель Ледовитого океана? Или замерзающее море, тяжелые густые туманы, насыщенные снежными крупинками, слой снега на волнах?
Скорее всего – образное поэтическое выражение этого впечатления.
Еще в Массалии Пифей поставил себе задачу узнать: Британия – это остров или часть Европейского материка, и на обратном пути обошел ее кругом, «измерил» ее и нанес очертания на карту в виде вытянутого треугольника.
На южных берегах Северного моря Пифей достиг местности, где волны щедро выбрасывали на берег множество янтаря. И немало подивились южане, узнав, что здешние аборигены расточительно используют драгоценный янтарь в качестве топлива, вместо дров.
Выменяв янтарь на железные изделия, Пифей завершил «коммерческую часть программы» и отправился домой, на родину.
На всем пути – с юга на север и с севера на юг – Пифей вел астрономические, географические и этнографические наблюдения. Несмотря на то, что обе его галеры были тяжело загружены янтарем и оловом, Пифей делал частые остановки, сходил на незнакомые, а порой и враждебные берега, заполнял путевые дневники записями о флоре и фауне, климате и образе жизни, обычаях, особенностях племен и народов, изыскивал возможности будущих торговых сношений, тщательно наносил на пергамент прихотливые линии берегов. Скрупулезно, с дотошливостью настоящего ученого он отмечал все, что казалось ему нужным и интересным.
Чужие моря, чужие берега – великие открытия, полезные сейчас и необходимые для будущих времен.
Одержимость Севером сделала Пифея первым его исследователем.
Пифей установил прямую зависимость между географической широтой и продолжительностью дня и ночи. Убедился, что движение приливов и отливов связано с притяжением Луной водной оболочки Земли. Сделал открытие, что направление на Полярную звезду не является точным указанием на Север. Первым, как мы отмечали, описал полярный день, полярное сияние, вечные льды.
Он обошел всю Британию, и весь мир узнал о том, что это остров, тогда как даже ее коренные обитатели не догадывались об этом. Пифей обрисовал ее конфигурацию и определил ее размеры – конечно, не очень точно, но довольно близко к фактическим. И это сделал Человек за 300 с лишним лет до новой эры!
Многие ученые считают плавания Пифея по смелости предприятия и по результатам не менее значимыми для истории человечества, чем открытия Колумба.
В пути он пережил много приключений, да, собственно, само по себе такое плавание в неизведанное и есть одно большое приключение. Также как и сделанные в нем открытия.
Однако самое большое приключение случилось с Пифеем, когда он благополучно вернулся в Массалию и опубликовал свои путевые записи и впечатления. Когда удивительное и небывалое, чему он был свидетелем и участником, станет обсуждаться и подвергаться сомнениям, не стесняясь в выборе выражений.
Те времена были довольно мрачные, впрочем, они всегда такие. О северных землях и морях ходили самые нелепые слухи и упорно держались самые дикие мифы (многие из них Пифей истребил). Об этом мы подробно скажем в своем месте. И в то же время даже самые правдивые рассказы бывалых мореплавателей вызывали недоверие. Такое же недоверие обрушилось и на Пифея. Причем недоверие – протяженное в веках. Яростнее всех нападал на Пифея географ Страбон: «отъявленный лгун… все сообщения Пифея есть вымыслы… наихудший лжец». (Можно подумать, наилучший лжец почетнее.)
Даже его несомненное плавание вокруг Британии подвергалось сомнениям. Якобы по протяженности во времени оно не могло состояться. В те далекие годы пройденные моряками пути измерялись так называемыми «парусными днями». В расчет бралось время, пройденное за день под парусами. Нелепость этого довода – на поверхности. На «парусный день» выпадали и штили и бурные дни, судно подвергалось влиянию течений, да и частые остановки у берегов, которые делал Пифей, искажали картину.
Позже более объективные исследователи утверждали, что все эти и другие нападки были «профессиональной ревностью… яростной враждебностью кабинетного ученого, потесненного в своих теориях практикой навигатора».
Но мы должны быть признательны оппонентам Пифея: цитируя его с целью дискредитации, они таким образом, сами того не делая, способствовали сохранению в веках добытых им сведений – ведь подлинников время не пощадило.
Однако самое главное приключение Пифея было далеко-далеко впереди, в тумане будущих столетий.
Почти через две с половиной тысячи лет открытия и сообщения Пифея были убедительно признаны достоверными и утвердили за ним славу великого мореплавателя и ученого.
В память и в ознаменование заслуг этого древнего первооткрывателя имя Пифея в 1935 г. Международным астрономическим союзом было присвоено лунному кратеру. Был также издан роман на основе «Бортовых дневников» античного мореплавателя.
Однако сам Пифей об этом вряд ли узнал… Впрочем, это судьба всех, кто опережал время.
Знания человечества о Севере складывались из скудных реалий и размашистых легенд. Холодный, бесконечный, безжизненный, ледяной простор. За гигантской скалой – свободное море, теплый материк, населенный красивыми великанами. Гиперборея. Молочно-белые туманы. Загадочные острова – то возникающие из ничего, то исчезающие в никуда. Волшебные сполохи в черном небе. Белое безмолвие. Вечная тишина. Только шорох замерзших звезд…
В 552 году византиец Прокопиос (ок. 500 – после 565) (или Прокопий), писатель-историк, сопровождавший в походах полководца Велисария, добирается до великой северной страны (скорее всего, это будущая Норвегия) в десятки раз больше Британии, где солнце ни разу не заходит в течение сорока дней, а затем в течение сорока дней господствует над страной длительная ночь.
(Ф. Нансен по этим данным вычислил описываемое место – 68° N. А это уже за Полярным кругом.)
Вот что Прокопиос писал о северном народе: «Он ведет животный образ жизни: не пьет вина, не употребляет чего-либо, даваемого землей, не носит платья из материи».
Своеобразное у византийца представление о животном образе жизни, особенно в том, что касается вина. Что же касается продуктов земледелия, то в этих навсегда замерзших краях произрастает лишь олений мох – нет ни виноградников, ни хлебных полей. Нет там возможностей возделывать лен и хлопок, разводить тутовый шелкопряд. Да и одежда из материи, а не из теплых шкур была бы для этих народов губительна.
Даже просвещенные народы, имевшие своих ученых и мореплавателей, представляли себе далеких северных обитателей в виде фантастическом и пугающем: живут там люди с двумя головами, но с одной ногой, на которой шибко скачут, а также киноцефалы – то бишь с собачьими головами люди; а девы там беременеют от одного глотка воды…
А далее, в восточной стороне, живут люди «самоедь». Ростом не велики (в полчеловека), носы малы, но «резвы велми и стрелцы скоры и горазды… А стрелба ж у них такова: трубка железна, да стрелку ту вкладывают в трубку да бьет молотком… А не говорят… летом живут в море, а на сухе не живут – тело трескается».
А в той же стороне – аки человеки, но без голов, «рты у них меж плечами, а очи в грудях».
Но вот что интересно – не имеют ли такие впечатления какой-нибудь реальной основы? Ведь любые, самые фантастические и невероятные измышления в основе своей какую-то каплю реальности содержат, иначе им не на чем вырастать. (Мы, естественно, не о беременности от глотка воды.) Вот европейцы говорят о киноцефалах, а славяне – о песеглавцах. Стало быть, и те и другие не единожды видали что-то похожее в разных северных краях, одни на Западе, другие на Востоке.
В общем и целом очевидцы-путешественники тех далеких времен отзывались о народах Севера однозначно неприязненно. «Народ этот крайне некрасивый, нечистоплотный и отвратительно пахнущий. Едят они только сырое мясо, делают себе одежды из звериных шкур, с которых волосы не сняты».
Такие впечатления оставил для нас английский путешественник и писатель Варнефрид (720–790), добравшийся до древней Скандинавии и назвавший тамошний народ «скридфиннами» – скользящие по снегу люди – видимо, в Европе еще не знали лыж. «Своим разумом они не отличаются от животных», – добавил.

