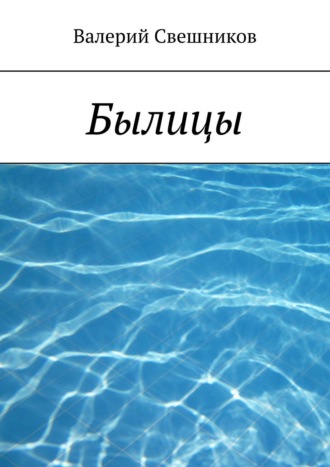
Былицы
В душе колыхался какой-то трепет от предстоящего вступления во взрослую жизнь. Можно сказать, что она приготовила нам прохладный прием, но мы встретили ее капризы уже слегка подготовленными.
Творог и горшок
Мы с отцом несколько раз ездили за грибами в деревеньку Панкино. Она расположена от города примерно в часе езды на велосипеде. Нас принимала хорошая знакомая – Мардарьевна. До сих пор не знаю, это отчество или прозвище. Всего скорее, отчество, хотя и слегка вычурное.
В тот раз мы приехали в Панкино уже под вечер и угадали как раз к ужину. Пища была простой и вкусной – жареные грибы с картошкой, что может быть лучше. Так как Мардарьевна знала, что я очень люблю творог, то главное блюдо она решила подать, что называется, под занавес. Когда она вошла в комнату с… ночным горшком, полным творога, надо было видеть мое лицо. Я просто застыл в изумлении и, видимо, так вытаращился на это горшок, что любому стало бы ясно – у мальчишки шок от увиденного.
Хотя отец шепнул мне, что горшок – это просто эмалированная посуда. А другой посуды в продаже даже и в городе не найти, а в сельской местности, тем более.
Похоже, что я не смог перебороть свое отношение и остался бы без творога. Но тут родитель, возможно, шепнул Мардарьевне, самое простое решение – это переложить творог в другую посуду. Это хозяйка и сделала. Я с удовольствием умял творог с картошкой и даже попросил добавки.
Взрослые, похоже, поняли, что надо сделать, чтобы не было непонимания. И поэтому больше стол не сервировали ночным горшком.
В тот вечер мы вкусно поели, а потом попили чаю с мятой, и уже к десяти вечера глаза мои начали слипаться, и меня отправили спать.
Проснулся я от еще одного потрясения – на спинку кровати над моей головой уселся петух и так громко прокукарекал, что мой сон сразу отлетел. Оказывается, в доме уже давно все проснулись – корову выгнали в стадо, и вообще, жизнь кипела.
В лес пошли поэтому не «по первой росе», а чуть позднее. Нас вел сын Мардарьевны – Николай. Он показал чудеса ловкости и какого-то сверхъестественного чутья, находя грибы в невероятном количестве, почти под нашими ногами. При этом он извлекал из-подо мха таких малышей белых грибочков, что мы просто диву давались. Только через час-другой мы тоже начали находить подобных малышей.
Так прошел наш поход в Панкино. В памяти остались мое потрясение от увиденного ночного горшка с творогом на обеденном столе, да две корзины белых грибов, у которых даже шляпки еще не потемнели, настолько они были молоды.
Сборы в Ленинград
Через год после войны родители поехали в Ленинград, к счастью, взяли и меня. Я впервые ехал в поезде. Двухлетнюю Иру родители оставили с бабушкой Сашей. Поэтому нам представлялась возможность побродить по этому красивому городу и посмотреть его. Пешие прогулки родители любили и предвкушали эту возможность, как большое удовольствие.
Их опасения, что маленькая Ира стала бы помехой в прогулках по городу, совершенно понятны. Ведь мои медленные передвижения пешком в три-четыре года тоже сдерживали их путешествия.
А ходить в те далекие времена даже с детьми доводилось много. В войну и послевоенные годы общественный транспорт не ходил вовсе или ходил очень редко, да и был ненадежен. Почти все передвигались пешком, «пешедралом» или «одиннадцатым номером» – так обозначали этот, по-научному, бипедальный способ передвижения.
Удивительно, что ходили в гости или по какой-либо другой необходимости без всякого предупреждения. Коли надо, то шли и обычно заставали знакомых или родных на месте. Двери иногда вовсе не запирали, достаточно было в них постучать и после этого войти.
Если же двери оказывались запертыми, то искали звонок. Это колокольчик с «дистанционным приводом», но висящий в квартире. Снаружи рядом с дверью имелась особая ручка, которую надо было дернуть на себя. Через натянутую проволочку усилие передавалось рычажку, который ударял по колокольчику. Некоторые звонки имели какие-нибудь надписи, вроде «Вишу у дверей – звони веселей».
В худшем положении оказывался посетитель, если двери в доме оказывались запертыми, а звонка не имелось. Когда стук косточками пальцев или кулаком не достигал слуха хозяев, то приходилось «включать усилитель сигнала». Для этого надо встать спиной к двери и стучать в нее пяткой. Обычно все-таки удавалось достучаться.
Так что ходили много, и пешие переходы через пол города считались обычным способом перемещения. Это отразилось даже в речи. Так, выражение «сходить в город» обозначало посещение центральных частей города. Теперь такие переходы редки, и все чаще говорят «съездить в город (или центр).
Опасения родителей по снижению скорости передвижения с маленьким ребенком чуть позднее оправдались полностью.
Через несколько лет всей семьей мы были проездом в Москве. Посетили Третьяковку и ВДНХ. Иринка, как всякий ребенок, быстро уставала, а основные проблемы, которые нам приходилось разруливать, заключались в трех ее желаниях – попить, пописать и поесть. Слова «алгоритм» еще не было в обиходе, но наблюдалась последовательность действий четко запрограммированная ребенком.
Выполнение иринкиного алгоритма, и тем более, нарушение его, заметно влияло на выполнение наших"культурных"программ.
Первые впечатления
Все, что связано с впечатлениями от поездки, для меня оказалось совершенно новым, и потому непривычным. Даже предвкушение поездки стало настолько всепоглощающим, что в день отъезда еще с утра я потерял аппетит. Зато, как только сели в поезд, мне захотелось есть. Да не просто есть, а утолить почти волчий аппетит. О чем я и объявил в первые же минуты после начала движения.
Поезда в те времена ходили неторопливо, так как тянули их солидно пыхтящие паровозы. Они имели привычку часто останавливаться, потому что каждые полтора-два часа паровозники набирали воды в тендер – эта стоянка длилась минут двадцать. А примерно через три часа приходила очередь более длительной стоянки, как пояснил отец, для чистки топки паровоза.
Я увидел эту настоящую мужскую работу. Она особенно впечатляла тем, что на улице становилось по-летнему жарко, и с трудом представлялось, что есть профессии, в которых люди вынуждены создавать собственное маленькое пекло.
Мы видели, что из-под топки паровоза сыпался дымящийся шлак. От него веяло таким жаром, что его тут же заливали водой. Он свирепо шипел и плевался паром и едкой пылью. В будке паровоза помощник машиниста гремел какими-то тяжелыми железяками, заглядывал в открытую раскаленную топку и забрасывал в нее уголь.
Наконец это действо закончилось. Потный помощник машиниста спустился из кабины паровоза на перрон, тяжело дыша и утирая обильный пот. Было видно, что он с трудом переводит дух после схватки с углем, огнем и шлаком. Помощник поднял большой чайник с водой, жадно попил из него воды и, наклонившись, вылил немного ее себе на шею и голову.
Отец объяснил, что чистка топки – это тяжелая работа, и особенно в жару. Да я и сам это видел. Тогда в душе я мечтал стать летчиком, а такое занятие, как чистка топки, на самолетах не встречается.
Как я был наивен! Потому что летчиком я, по разным причинам не стал, а вот чистить топку в жару мне пришлось, и не раз. И тогда я, бывало, вспоминал свои детские впечатления от этой поездки.
В дороге мне многое казалось необычным. Прогуливаясь вдоль поезда, я заметил, что некоторые вагоны чем-то отличаются от нашего. Еще сильнее бросались в глаза отличия пассажиров.
Так, в самых красивых вагонах ехали довольно толстые краснолицые люди, которые на остановках выходили на перрон в нижнем белье! Я очень удивился этому. Отец объяснил, что это пассажиры мягких вагонов, и надето на них не нижнее белье, а пижамы. В них, конечно, ехать можно, но выходить на улицу не следует.
Из объяснений отца я также понял, что вагоны делились на мягкие, жесткие, или плацкартные, и общие. Мы ехали в плацкартном вагоне, название это не сразу и выговоришь, тем более, его не поймешь.
То, что у нас жесткий вагон, можно легко понять – полки в нем, действительно, жесткие, плоские и деревянные. Они удерживались металлическими тягами с петлями на концах. На всех неровностях пути и на поворотах эти железяки нещадно гремели.
В жестких и общих вагонах тогда не было чая, привычного теперь, хотя это кажется невероятным. Зато на каждой большой станции имелась избушка или домик, на котором выделялась крупно написанная надпись «Кипяток».
Туда на остановках стремился народ, чтобы набрать кипятка, и потом утолить жажду, да и просто перекусить, запивая еду чаем, – невозможно же есть всухомятку свои дорожные припасы.
Кстати, в те годы ходила байка про иностранца, который удивлялся тому, что в СССР все станции называются одинаково – «Кипяток».
Следы войны
Ехали мы очень медленно, особенно после Тихвина. Там железная дорога проходила через бывшую линию фронта. За окном вагона проплывали картины последствий войны. Понятно, что я неотрывно смотрел на них через окно.
Надо отметить, что в старых вагонах окна очень удобны для этого занятия. Оконная рама у них опускалась так, что из окна при желании можно даже вылезть. Поэтому временами я высовывался из окна почти по пояс.
Такого количества разбитой военной техники я еще никогда не видывал. Бросались в глаза пушки и танки, как немецкие, так и наши. А окопы, колючая проволока и воронки по национальной принадлежности определить уже было невозможно. Но их попадалось так много, что тянулись они за окном почти до самого Ленинграда. Руины разбитых зданий около станции Саперная простояли почти до семидесятых годов.
Большое впечатление вызывали надписи «Осторожно, мины!», висевшие на колючей проволоке, а кое-где на дощечках, приколоченных к палочкам. Многие из таких объявлений были совсем рядом с железной дорогой.
Первые шаги по Ленинграду
Наконец, мы приехали на Московский вокзал. Нас встретила тетушка Клава. Я впервые увидел эту таинственную родственницу, с которой отец иногда предлагал мне поговорить по телефону.
Каждый раз, держа трубку у своего уха, я страшно мучился с вопросами-ответами, ибо совсем не представлял, о чем можно говорить со взрослым человеком, которого никогда не видел.
Тетушка жила на Гагаринской улице, и поэтому от вокзала до дома мы шли пешком. Меня ошеломил вид разбитого города. Кое-что из «истории» домов поясняла Клавдия Николаевна, но многое можно было понять и самому. Особенно печально выглядели руины со стенами, на которых сохранились коврики, часы, фотографии, а иногда и картины. Нелепость и слепая случайность гибели потрясала воображение.
Наша родственница рассказывала, что у нее от голода, как у многих, не было сил спускаться в бомбоубежище. Тем более, жила она на шестом этаже. Поэтому во время тревог часто оставалась в квартире, хотя бывало, бомбы падали где-то рядом (мы видели остатки этих домов), но сил спуститься в бомбоубежище, а потом подняться, не хватало. Дом дрожал, от разрывов бомб, а однажды при близком взрыве платяной шкаф чуть было не упал на нее.
Я шел, и все время крутил головой, ожидая увидеть музеи, о которых рассказывал отец, но первым «культурным» заведением, которое мы посетили, оказалась баня.
Баня
Сказалось бдение у вагонного окна, оно изменило мой внешний вид. Волосы на голове были наполнены гарью от паровозного дыма. Даже за ушами скопилась грязь. Надо было срочно приводить меня в «божеский» вид, как сказала мама. Хотя ванная комната в коммунальной квартире существовала, но она не действовала – во время блокады от мороза разорвало трубы. Порешили – идем в баню.
Чайковские бани слыли заведением известным и почитаемым любителями хорошего пара. Как обязательный атрибут бани, перед входом в отделение толклась очередь. Но через полчаса мы все-таки туда прошли.
Да, баня оказалась более ухожена, чем наша главная «Железнодорожная» в Вологде. В гардеробе стоял фикус! Встречалось, однако, много покалеченных войной мужчин, не было толстяков, а больше мылось худых и неторопливых людей. Пар в бане оказался настолько хорошим, что отец в парную сходил несколько раз.
Меня отмыли. И потом мы выпили в буфете невиданный мной до тех пор напиток – клюквенный морс.
Музей обороны
Тетя Клава жила совсем рядом с интересными местами – с Невой и Фонтанкой, с Марсовым полем и Летним садом. Наши пешие прогулки по прекрасному городу, хотя и разбитому войной, почти каждый раз приводили к какому-нибудь новому открытию. Оно оказывалось новым, в первую очередь для меня, но иногда бывало открытием какой-нибудь новой стороны и для родителей. Каждый виденный дом, церковь или дворец отец как бы нам преподносил. Он помнил многие собственные открытия чего-нибудь нового со студенческих времен, и теперь щедро делился ими.
Но одно открытие стало неожиданным даже для отца. Им оказался Музей обороны Ленинграда. Он располагался совсем рядом с Гагаринской, и при первой возможности мы его посетили.
Теперь там располагается знаменитая «Муха», а в то время все это громадное здание в Соляном переулке было целиком наполнено блокадными экспонатами. Такого музея я не видывал никогда. Потом его, к великому сожалению, разгромил Сталин, точнее, его приспешники. Теперь, конечно, что-то восстановлено, но многое исчезло бесследно.
То, что там представлена почти вся военная техника и наша и противника – это еще не все. Поражали воображение удивительные диорамы, множество фотографий и прочих вещей, которые теребили душу и вызывали почтение к пережитому ленинградцами. Конечно, присутствовала и радость победы, но сквозила и боль от пережитого ими ужаса и страданий.
Напоследок меня впечатлила огромная пирамида из касок, которая перекликалась с верещагинским «Апофеозом войны». Конечно, это сравнение подсказал отец.
Конфета
Мы не всегда полностью оцениваем, не только полученный подарок, но и последствия от нового обретения.
По приезде родители посещали многих своих знакомых, и вот однажды в гостях на прощание меня угостили довольно большой конфетой. Но так как чай уже попили, то я поблагодарил за подаренную сласть и так понес ее в руке. Нельзя сказать, что я жаждал чаю, но на ходу жевать конфеты просто так, как яблоко или печенье, я не мог – не привык.
Я почти весь день не расставался с подарком, так и ходил по городу, держа в руке. От тепла сласть стала мягкой, но шоколад, похоже, был настоящий, поэтому подарок «дождалась» вечера. Точнее, вечернего чая. Тут-то я и угостил конфетиной тетушку.
Я чувствовал, что сделал свой презент не очень деликатно, но все равно Клавдия Николаевна была потрясена моим терпением. Мы честно разделили эту довольно большую конфету на двоих.
Я впервые понял, что подарки могут приносить радость даже тому, кто дарит.
Самокат
В поисках нужной вещи в послевоенные времена, даже в Ленинграде, приходилось тратить много времени, обходя один магазин за другим. Таким «способом» мы искали обычный самокат.
Уже много лет у советского человека для поиска нужного товара развивались и совершенствовались интуиция, настойчивость и некоторые другие качества, не самого лучшего разбора. Существовал, конечно, и блат, но встречались и добрые советчики.
Такой доброй феей для нас стала Ханна Михайловская – продавец «Спортмага» Апраксина двора. Она как хорошая знакомая моих родителей быстро перечислила магазины, где можно поискать самокат. Х.М. заверила, если они вдруг появятся в продаже в их магазине, то непременно нам сообщит. Но самокат – это, скорее, игрушка, чем спортинвентарь. В их магазине самокатов не появилось. Мы же неустанно вели поиски.
И вдруг однажды нам встретился мальчик – счастливчик, катавшийся на новеньком самокате. Мы спросили, где ему купили эту дефицитную колесницу, но мальчишка испугался и уехал куда-то в сторону.
Слежка за ним дала результаты: мы нашли, наконец, заветную скамейку в Летнем саду, где сидела мать владельца желанного транспортного средства.
От нее узнали, где продают этот чудесный дефицит. Нам следовало всего лишь добраться до универмага, что на площади Калинина.
Как мы достигли заветной цели, надо писать отдельно. После покупки самоката пешком вернулись обратно, на Гагаринскую. Я-то, правда, не пешком шел, а уже осваивал обновку. Ах, как же я был счастлив в тот момент! Тут даже можно сказать – всю дорогу!
Эрмитаж
Посещение Эрмитажа – это обязательная часть программы любого гостя Ленинграда. То, что это большой музей, я знал из рассказов родителей. Но, что Эрмитаж так велик, я не представлял.
Отец правильно продумал нашу экскурсию, мы ходили примерно часа два. В результате получилось, скорее, знакомство с самим зданием Эрмитажа, чем с обязательным «набором» его шедевров.
Помнится, что мы осмотрели знаменитые часы с павлином, в этом зале тогда действовало несколько «фонтанов слез».
Тогда же был открыт для входа сад под открытым небом, и мы прошлись по его аллее.
Мне понравился рыцарский зал, тем более, отец сделал его посещение сюрпризом. А потом посмотрели коллекцию холодного оружия. Я понял, что мне надо качать мышцы. А все потому, что размеры и вес двуручного меча внушали уважение к их владельцам. Можно было догадаться, что махать таким увесистым оружием мог только настоящий силач.
Некоторые экспонаты этих залов удивили своей формой и тонкостью работы. Особенно этим выделялось холодное оружие, но и огнестрельное, похоже, произведено с не меньшим тщанием.
Петергоф
Побывали мы и в Петродворце. Я тогда впервые ехал на электричке. Она мне поначалу показалась довольно комфортной. Называлась электричка странно – Ср-3. Но катила она бойко, свистела, правда, как-то визгливо, но доехали мы до места быстро – всего за полчаса или чуть больше.
То, что двери в вагоне были обычными, как в пассажирских поездах, меня не удивило. Не знал я еще об автоматических дверях.
Петродворец тогда прозывался по-русски, а не по-немецки – Петергоф. Сказывалась неприязнь к немецкому языку.
Сам дворец еще лежал в руинах, но многие фонтаны уже работали. Мы успели посмотреть некоторые из них, пока наконец не добрались до Монплезира. Там меня заинтриговали фонтаны-шутихи. Я долго следил за тем, на какой камень надо нажать ногой, чтобы вдруг брызнула вода.
Я бы долго наблюдал, если б отец не намекнул мне, что, возможно, фонтан срабатывает по команде человека. И только тогда я увидел «виновника» чудесного действия шутихи.
После всех увиденных красот, я не нашел ответа – почему надо было разрушать это красивое создание рук человеческих. Кому оно помешало?
Обратная дорога
На обратном пути я собирался еще раз посмотреть на следы войны, так поразившие меня по дороге в Ленинград. Поэтому приготовился, что теперь я встану к окну с другой стороны поезда, чтобы увидеть то, что я не смог рассмотреть прежде. Кое-что все-таки удалось увидеть, но быстро наступила ночь, и на том закончились мои наблюдения.
Утром из-за вынужденного безделья, ведь следов войны уж нет, решил узнать, что будет, если я подпрыгну и буду наблюдать, как за это время сдвинется поезд. Так началась моя первая попытка изучения закона относительности движения и покоя. Не знал я тогда, что Галилей уже давно его открыл.
Мои эксперименты решительно прекратили пассажиры, которые почему-то хотели спать. И особенно мои прыжки раздражали людей, желающих с утра пройти в туалет. Мне в тот раз пришлось отложить открытие уже давно открытого закона. Так бытовые проблемы погубили на корню научную мысль.
Впоследствии мы еще не раз ездили в поездах, и почти всегда люди оставались глухими к моим опытам. А как было бы здорово подпрыгнуть всем пассажирам одновременно, поезд от такого облегчения сразу бы побежал быстрее, но люди не захотели меня понять.
Так человечество иногда тормозит прогресс. Как потом оказалось, я был неправ, но не совсем. К сожалению, многим представителям человеческого общества, действительно, наплевать на многие законы природы. А жаль, им жилось бы интересней, а может, и безопасней.
Поездка на юг
Летом в начале пятидесятых годов мы собрались поехать в Пятигорск в гости к родне. Ехали всей семьей. Для нас с Ирой это было первое далекое путешествие.
Поэтому можно понять, что мы чувствовали себя немного не в своей тарелке от предстоящей поездки. Проявилось это в том, что мы в день отъезда ничего не ели, но зато набросились на еду сразу после посадки в вагон.
Поезда по-прежнему ходили неторопливо. Паровозы все также шли с частыми остановками для заправки водой, а через два-три часа с долгими остановками для чистки топки, что сказывалось на всем поездном обиходе.
На крупных станциях при долгих остановках пассажирам удавалось пообедать в станционном буфете или даже ресторане. Для этого на улице или на железнодорожном языке – на перроне – устанавливали ряды столов с уже готовыми обедами. С тех пор сохранилось в памяти: почему-то яркое солнце, белые скатерти на столах, надуваемые ветерком, как паруса, и толпы, обедающих за столами.
В то же время помнится, что бежали обедать далеко не все – многие оставались в вагонах и пробавлялись чайком. Для них на станциях близ вокзала имелось заведение с названием «Кипяток».
Эти странствующие неслись к заветному источнику и набирали в чайники кипяток в неограниченном количестве. В вагонах начиналось пиршество. Чаевничали с пирогами, баранками и батонами, запивали чай конфетами и сахаром вприкуску. Особенно им нравилось попивать чаек после начала движения. За окном начиналось бесплатное кино: сцены из жизни окраин и пейзажи, слегка разбавленные железнодорожными мотивами. Поезд бежал, не торопясь, и народ тянуло на разговоры и даже на песни.
Помимо чая таким путешественникам удавалось подкрепиться в пути горячей картошкой, солеными огурцами, помидорами или фруктами. Купить их предлагали самодеятельные продавцы, выходящие к поездам дальних направлений. Эта снедь часто выручала в долгих переездах человека со скромным достатком.
Паровозы не были столь деликатны в движении, как нынешние локомотивы, и первоначальный рывок после частых остановок был уже почти ритуалом и не вызывал неудовольствия у пассажиров. Запах паровозного дыма, пожалуй, также не казался неприятным, а, скорее, наоборот, становился ароматом путешествий.
Вагоны в те времена тоже существенно отличались от нынешних. Встречались еще в поездах даже двухосные вагоны – маленькие и суетливо дергающиеся во время движения. Гордостью железнодорожников к тому времени стали «пульмановские» вагоны – четырехосные, всегда ядовито-зеленые, кажущиеся верхом комфорта непритязательным современникам.
Наиболее интересным местом по дороге до Москвы была Волга, точнее, мост через нее. Проезжали Волгу уже почти ночью, но многие, я заметил, ждали именно этого момента, и только после него стали укладываться спать.
Мы тоже полюбовались Волгой. Она показалась тихой и какой-то величавой в ночном полумраке почти белой ночи. Потом мы еще дождались появления и самого Ярославля, в смысле, вокзала станции Всполье, ну, а после тоже улеглись спать.
Москва
Утром нас встретила Москва. Хотя до прибытия на вокзал было еще далеко, но уже задолго появились признаки приближения к большому городу.
Высокие платформы электричек, невиданные в наших краях, трамваи и троллейбусы, подвозящие толпы людей к вокзалам, облик городков, проносившихся мимо окон поезда, тоже отличался чем-то московским. Но скоро поезд начал идти медленнее, дома за окнами стали ближе и заметно выше, и наконец поезд встал как вкопанный.
Долго, как нам казалось, мы выходили из вагона. Первые шаги по московской земле поразили необычным шумом – это предлагали услуги носильщики, таксисты и еще какие-то люди.
Необычный и новый особый запах большого города удивил и запомнился надолго. На метро мы добрались до станции «Красносельская» и остановились у Шурочки Александровой – дальней родственницы и бывшей вологжанки.
Остановка наша длилась недолго – вечером мы уезжали с Курского вокзала. Весь день мы ходили и ездили по Москве. Больше ходили – папа любил и знал Москву.
Он рассказывал то, что сам узнал, когда бывал в Москве с заводской футбольной командой.
Побывали и в Третьяковке. Тут опять отец нас провел по самым интересным залам. Теперь можно сказать, что реализм Репина, Сурикова и Левитана отца привлекал больше всего.
Мы так утоптались, что решили присесть отдохнуть. Отец показывал нам наиболее интересные на его взгляд улочки и переулки старой Москвы.
И вот мы забрели в какой-то, как оказалось, ведомственный двор. Но мы не подозревали, что там все «охвачено» охранкой. Только мы присели и вздохнули после долгих переходов и многих впечатлений, как подскочил охранник в своей синеватой форме и строгим официальным тоном потребовал: «Покиньте эту территорию». Родители пытались объяснить – сейчас дети отдохнут, и мы уйдем. Но, как все охранники, наш был непреклонен и бессердечен. Пришлось уйти. Прошли немного по улице и нашли более спокойное место для недолгого отдыха.

