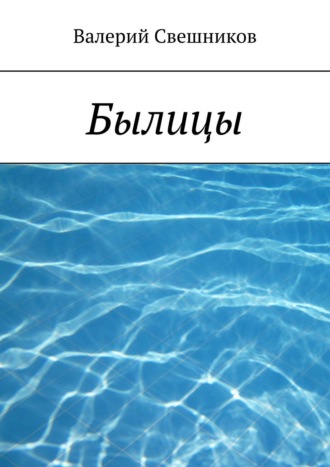
Былицы
Фонари с плоскими, «нашенскими-отечественными» батарейками водились в каждом доме, а вот тех самых батареек-то для них часто днем с огнем не найдешь.
Потом появилась леска и рыболовные китайские крючки. Мы – мальчишки, это заметили, а следом стали продаваться брюки, рубашки и, особенно, плащи.
Удивляла, опять же китайская, зубная паста. В те годы у нас, в СССР, продавались две пасты: «Мятная» и «Детская». Да, чуть не забыл, еще существовал зубной порошок «Особый».
Мы считали, что живем в сплошном счастье, поэтому не подозревали, что для полного удовлетворения запросов народа необходимо много чего еще, кроме многообразия зубных паст и прочей мелочевки. И тут китайцы показали, что можно достичь, хотя бы небольшого разнообразия и чего-то похожего на изобилие, если захотеть.
Внезапно появилась еще и китайская лимонная зубная паста. Ее тюбики казались невзрачными на вид, но я купил ее из любопытства. При первом же применении она оказалась приятной на вкус и давала такую обильную пену, что ее рот не вмещал. Так мы узнали, что бывают и пенящиеся пасты.
Поразили нас и китайские кеды – довольно удобные и прочные. Эта новая доступная спортивная обувь быстро вытеснила «тенниски» – простенькие отечественные туфли с резиновой подошвой и тряпочным верхом.
А вот с китайским кино случилась совсем другая история. Те редкие фильмы, что попадали на экраны, были невероятно низкого вкуса и качества. Это были главным образом картины о войне. Они оказались даже хуже многих наших киноподелок – «фильмов про войну», которые можно обозначить как «наши – умные, а немцы – дураки».
Может быть, только такие фильмы нам и показывали, но, возможно, были и другие.
Вдруг китайцы поругались с нашими властями из-за осуждения культа личности. Следом исчезли все китайские товары, ну почти, как теперь после начала санкций. Спрашивается, кому от этого плохо?
Правда, те плоские батарейки так и сгинули навсегда, а появились наши, тоже круглые. Хоть чему-то мы научились.
«По грибы»
Почему-то в Вологде преобладала такая архаичная форма определения, так называемой третьей охоты. Не все говорили «ходил за грибами». Кстати, также не говорили «пошел за водой», потому что некоторые взрослые поправляли при этом: «За водой пойдешь – не вернешься». Видимо, побаивались какой-то нечисти, что ли, и объясняли свои слова тем, что вода в реке, мол, уведет, и пропадешь с концами.
Как бы не называли это занятие, но за грибами ездили всегда с удовольствием, и потом рассказывали о том, где, с кем и сколько их набрали.
«Губину» солили, белые и подосиновики сушили, и очень вкусно готовили жареные грибы. Соленые грузди или, еще лучше, рыжики – это и вкусная еда и великолепная закуска на столе. А картофельные котлеты с грибной подливой – это, по моему мнению, просто объедение.
В будни за грибами взрослые ездили только во время отпуска, если он приходился на грибную пору. Зато в выходные: в воскресенье, а позднее в субботу и воскресенье – отправлялись целыми автобусами или грузовыми машинами со скамьями, установленными в кузове.
Народу в машины набивалось, что называется, под завязку. Всегда перед отъездом старожилы держали «военный совет». Потом ехали час-полтора до места «высадки десанта».
Там, на месте, договаривались, когда едем обратно, куда лучше направляться и давали кое-какие другие советы. Однако, всегда кого-нибудь ждали по полчаса, а то и больше установленного срока.
Очень запоминались поездки, когда выпадала полоса, или слой грибов. Набирали помногу и, бывало, даже собирали одни шляпки грибов. Но иногда случалось, что за целый день поисков собирали едва по корзине, в которой можно было увидеть все, что нашли: от отдельных белых до «букетов» опят.
В поисках грибных мест заезжали на машинах в такую глухомань, что «путевой» дороги там не найти. Но всегда выручала дружная помощь грибной команды, которая почти на руках выносила застрявший в грязи «зилок». Правда, и трофеев в такой экспедиции набиралось много.
Иногда на хорошие грибы натыкались случайно, и поэтому воспоминания о них оставались яркими и незабываемыми. Так, однажды, возвращаясь с осенней охоты, решили зайти в лесок, проверить, нет ли грибов. И наткнулись на такое их изобилие что набрали белых и подосиновиков во все емкости, что были в машине, и даже в рубахи, из которых пришлось сделать своего рода торбы.
В другой раз, мы в сентябре всем девятым классом работали в колхозе, правда, не на картошке, а на льне. Собирали его на полях, где он сушился в снопиках. После обмолота коробочек с семенами расстилали стебли по траве для довершения наших трудов дождями, росами, солнцем и туманом. Работа на льне нетрудная, но долгая и многодельная, как у нас говаривали. Зато в конце трудов наших получались довольно красивые узоры из серебристого разостланного льна на зеленой траве, да еще и освещенные солнцем.
И вот наконец за нами приехали машины, чтобы отвезти в город. Перед отъездом мы с дружком Руфкой пошли на разведку в ближайший лесок, и наткнулись на обильный и дружный урожай лисичек. Их оказалось так много, что уехать без грибов было бы обидно.
Отпросились у классной руководительницы Веры Александровны С. и остались, чтобы пособирать этих милых грибочков.
Набрали столько, что еле дотащили до остановки грузотакси. Был в наши времена такой вид транспорта. Это грузовик-полуторка с брезентовым тентом над кузовом, а в нем пять-шесть деревянных скамей. Удобства не ахти какие, но ходил он исправно, и это главное.
Кстати, тогда и дороги тоже отличались от современных, асфальтированных. Их мостили булыжником. Ехать по ним не очень комфортно, но возможно, если помнить правило «больше газу – меньше ям». Но нам и ехать было радостно – ведь мы возвращались домой с гостинцами.
Храм
В тот раз мы с отцом поехали за грибами на довольно далекую станцию. Уже наступил сентябрь, и пришли ночные холода. В осеннюю пору довольно часты туманы, и в тот раз он оказался на редкость густым.
Мы шли от станции, едва различая наезженную дорогу под ногами. Пробираясь сквозь белесую пелену, ждали, когда же мы выйдем либо к лесу, либо к деревне.
Постепенно сквозь окружающую мглу стало пробиваться солнце, и выглядело оно как светлорозовый диск. Казалось, что оно вот-вот победит туман, но получилось наоборот – солнце стало чем-то заслоняться, и вскоре диск его исчез совсем.
Казалось, мы, наконец, добрались до леса. Однако сумрак нарастал по мере продвижения вперед, и через несколько шагов мы увидели перед собой старый деревянный сруб из толстых бревен. Присмотревшись, поняли, что перед нами стена большой деревянной церкви. Удалось разглядеть, что церковь высокая и многоглавая.
Но шли-то мы за грибами, поэтому решили осмотреть церковь на обратном пути, и двинулись дальше по дороге в лес.
Грибов в тот раз набрали много. День разгулялся, и настроение было отличным.
Как только выбрались из леса, то увидели эту церковь. А точнее, храм. Он был так красив, что дух захватывало. Церковь просто сияла серебром – это осиновый лемех многих куполов блестел под осенним солнцем.
Храм был кое-где огорожен, и даже сохранилось несколько скамеек. Уже издали становилось понятно, что он покинут людьми. На дверях висел большущий амбарный замок. Что уж там хранили – одному богу известно.
Мы присели на скамейку у паперти и достали свои нехитрые припасы, чтобы перекусить перед дорогой. Непроизвольно залюбовались украшениями – деревянной резьбой, куполами, красивыми навесами и крылечками. Так и сидели до самого последнего срока, чтобы не опоздать на поезд.
Вышли в последний момент, и направились к станции. И хотя мы спешили, да и корзины с грибами скрипели от тяжести, но все время оглядывались, чтобы посмотреть на храм. Чем дальше мы уходили, тем все меньше проступали следы заброшенности, храм, как бы поднимал голову и говорил: «Я держусь и жду вас еще раз». Я надеялся, что мы сюда еще приедем, увидим и поснимаем эту красоту.
Судьба, однако, распорядилась по-своему: увидел я что-то подобное лишь спустя почти двадцать лет, в Кижах. А этот храм через несколько лет сгорел.
Вот уж действительно – что имеем – не храним, а потерявши – плачем.
К сожалению, эта поговорка так и осталась неизменной. Обидно, что почти ничего нам не удается сохранить, да и плачут по утраченному лишь немногие, остальным же обычно безразлична судьба нашей старины. Но попробуй сказать им, что не стоит тогда считать себя патриотами – оскорбятся со страшной силой.
Иконы
Во времена хрущевской оттепели стало можно говорить о вере. Мы, конечно, не знали, что это очередной обман властей.
Вместе с двоюродной сестрой Люсей, вдохновившись новыми веяниями, решили мы отдать в музей бывшие домашние иконы. Они давно уже хранились на чердаке дома.
В то время наша картинная галерея и краеведческий музей еще не разделились, так что о будущем разделе никто не знал, а мы полагали, что музею и галерее наш дар, может быть, пригодится.
Мы основательно нагрузились священными предметами – под самую завязку. Один из них, а точнее, объемная резьба по алебастру, изображающая «Вознесение», выделялся довольно большими размерами. Находилась эта композиция в красивом позолоченном футляре. Кроме того, мы везли на тележке еще три или четыре большие иконы (размеры их в высоту превышали полметра) и несколько мелких.
С большим трудом довезли весь груз до места. О том, что музей примет наш дар, мы предварительно договорились. Там тоже подготовились к нашему приходу, и поэтому провели нас по запасникам.
Понятно, что увидели в хранилище много интересного. Оказалось, что там пяток, а может и больше, картин Машкова, встречались неплохие вещи, но не установленных европейских художников. Всего скорее, это были произведения из коллекций, реквизированных в годы репрессий.
Мы продвигались по закоулкам хранилища, как вдруг работница музея открыла низкую дверцу темноватой каморки с несколькими мужскими фигурами внутри. Оказалось, что это деревянные скульптуры Христа, ожидающего суда и Голгофы.
Люська даже вскрикнула, настолько эти скульптуры походили на предбанник с сидящими мужиками. Похоже, этого ошеломляющего впечатления экскурсовод и добивалась.
Размеры фигур были близки к обычным человеческим. А усиливало впечатление то, что скульптуры Христа вырезались обнаженными.
Потом на фигуру надевали соответствующие одежды, и даже изготавливали обувь. Экскурсовод рассказала с придыханием и закатыванием глаз, что тапочки, сшитые для статуи Христа, часто оказывались изношенными! Мы, естественно, ахали.
Помимо фигур Христа, большое впечатление на нас произвело посещение еще одного хранилища изделий пермской деревянной резьбы. Там впервые увидели редкие резные иконы.
Позднее пожалели, что почти все иконы за раз сдали в музей. Можно было бы растянуть это удовольствие на несколько посещений. О чем мы и обмолвились дома. Но, к сожалению, остальные образа с чердака взрослые оставили в сохранности, до лучших времен.
О попугаях и кроликах
В послевоенное время возникла нужда в услугах психотерапевтов, но таких специалистов тогда не водилось. Пол страны бы к ним обратилось, ведь судьбы многих соотечественников поломала война и прочие невзгоды.
Неуверенность людей в будущем, неизвестность судеб близких, и их путей в прошлом, а также мест пребывания родных в настоящее время, вынуждали многих искать любую надежду и утешение.
Как во всякое сумбурное время, вдруг появилось много гадальщиков и прочих «пророков». Особенно часто подобные «оракулы» встречались на рынке и на вокзале.
Оборудование у такого доморощенного гадальщика было самым простым: попугай или кролик и ящичек с конвертиками, в которых находились готовые ответы на разные жизненные ситуации.
Желающий узнать свою судьбу платил деньги этому «пророку», который что-то шептал своему ассистенту – попугаю или кролику. Тот направлялся к ящичку и начинал исследовать содержимое. Кролик, похоже, обнюхивал конвертики, а попугай их осматривал. Потом они вытягивали один из конвертиков и передавали его хозяину.
Наверное, здесь и начинались манипуляции с сознанием желающего, узнать свою судьбу, – конверт можно было подменить любым другим, более подходящим. Затем он вскрывался «пророком» или отдавался клиенту.
Слова, определяющие судьбу, прочитывались вслух, и все ахали, если их смысл поражал воображение окружающих. Если же слова оказывались непонятными, то «пророк» разъяснял их потаенный смысл, и изумление сочувствующих наступало несколько позднее.
В этой игре, пожалуй, самыми честными оказывались кролики и попугаи – они-то честно отрабатывали свой паек.
Дом детства
Родной дом – это целый мир. Но понимаем мы его многогранность и значение, лишь когда вырастаем. Да и то, чаще после того, как уедем их него, из дорогого родного дома. Это место, где началось наше познание жизни, ее мозаики, кусочки которой и составили наше представление о мире, о его сложности и о его счастливых моментах.
Долго, целых шесть лет, мои воспоминания о детстве, о нашем доме, были связаны с маленькой комнаткой с окнами на улицу. Только после окончания войны мы переехали в комнаты с окнами во двор. Связан этот переезд, всего скорее, с тем, что подросла моя сестра Ира и начала ходить, говорить и шалить. Да и отец после войны стал чаще бывать дома.
Комнатка же, где мы жили до переезда, стала маловата для четверых. Вот поэтому бабушка Саша и предложила перебраться в комнаты большего размера. Мы тогда очутились как будто во дворце – ведь там было две комнаты и большая кухня.
Вид из окон, правда, оказался не на улицу, а на соседние каретники, дворовый флигель, сараи и поленницы. Зато прямо перед окнами с одной стороны возвышались две красивых церкви: Варлаама Хутынского и Ильи Пророка. А с другой стороны открывался вид на наш главный Софийский собор и его колокольню.
В одной из комнат имелся выход на большой и удобный балкон. Чтобы украсить наше новое жилье, отец на стеклах окна, выходящего на балкон, нарисовал алмазным стеклорезом елку с шарами и шпилем на верхушке. Перед Новым годом, когда ударяли морозы, окна украшались ледяными узорами. Тут неожиданно и проступал рисунок. Это было потрясающе красиво и казалось волшебством. Особенно радовалась этому чуду моя сестренка Ира. Я уже понимал причину появления рисунка, и оценил выдумку отца.
Квартира показалась мне такой большой, что я стал кататься по комнатам на трехколесном велосипедике. В каждой комнате было по печке, а на кухне возвышалась большая русская печь. В морозы печи приходилось топить утром и вечером.
В такую пору в угловой комнате на одной из стен даже намерзало довольно большое пятно инея. Я был уверен, что за этой стеной прячется Дед Мороз. В такую холодину приходилось даже в квартире ходить в валенках. Но сильные морозы бывали недолгими и через неделю-другую прекращались. А вот куда перебирался Дед Мороз, я так и не узнал.
Когда холода отступали, то протопленные печи согревали. Ну, а если все-таки тепла не хватало, то погреться у печки – одно удовольствие. Прижмешься к ней спиной и, сидя на стуле, читаешь с наслаждением.
В один из таких холодных дней, но в самом раннем детстве, я решил согреть своего целлулоидного пупса. Приставил его ножки к дверце печки, отчего тот сразу вспыхнул ярко и запылал большим пламенем, я закричал от испуга. Мама успела справиться с огнем, швырнув моего любимца в печку. Были, конечно, слезы и обида, но как-то быстро закончившиеся.
По воспоминаниям родителей имелась у меня странная детская причуда. Когда днем мне хотелось поспать, то почему-то не ложился хотя бы на диван, а укладывался прямо под столом, где обычно играл «в дом» или «в солдатики». Вот только всегда подстилал газету. Зачем я это делал, родители от меня не получили ответа, но говорят, выглядело это смешно. Меня даже стали называть «газетчиком».
Во время налетов вражеских самолетов город не бомбили. Фашисты метили в мосты и железную дорогу. Никто не знал о замыслах врагов, поэтому мы при налетах прятались в вырытых траншеях. Взрывы зенитных снарядов и лучи прожекторов притягивали своей красотой, но мы, дети, не знали о страшном смысле этого «салюта».
Однажды мы ходили в город. Кстати, выражение «сходить в город» обозначало посещение центра его – магазинов, кинотеатров, музея, аптеки и еще каких-либо нужных человеку учреждений, например, поликлиники.
В тот раз зимой мы шли через Каменный мост. Это старая часть города, там, где прежде располагались торговые ряды, давно уже преобразованные в магазины и магазинчики, фотографию, военкомат, поликлинику и обком партии.
Около военкомата стояла лошадь, похоже, рысак, запряженный в легкие красивые санки. На лошади, видимо, разъезжал сам военком города, поэтому ее прикрыли попоной, украшенной большой красной звездой. Был тогда довольно сильный мороз, и она даже слегка покрылась инеем. Я же такое приспособление видел впервые.
Поэтому остановился и спросил отца: «А зачем на лошади одеяло?» Он ответил, что это вовсе не одеяло, а попона, чтобы конь не замерз. Мы пришли домой, и первое, что я сообщил маме: «Мы видели лошадь, а на ней была НАПОПА!»
Вообще в то военное и послевоенное время в городе встречалось много лошадей, которые использовались, что называется, «и в хвост и в гриву».
Большая часть перевозок товаров по маленьким магазинам производилась только на подводах. Вместо казенных автомобилей некоторых начальников средней руки развозили также на лошадках, запряженных летом в пролетку, а зимой в санки. Скорая помощь тоже передвигалась на пролетках, и поэтому выражение «карета скорой помощи» полностью соответствовало своему названию.
Множество повозок каждое утро въезжало в город, а после полудня начиналось их движение обратно. Мальчишки нередко просились проехаться на санях или телеге, особенно, когда шли из школы. Иногда возница вез колоб или прессованный жмых – очень желанный для нас продукт. Если он был из семечек подсолнуха, то у нас глаза разгорались на это лакомство. Тогда мы с выражением в голосе усталости и печали просили возчика нас подвезти, уговаривали с надеждой, что он подкинет нас хотя бы недалеко, тогда уж точно выпросим кусочек желанного жмыха.
Примерно через год или два после переезда, родители и я сам отметили момент, когда закончилось мое детство. Однажды зимой, в холода, я решил согреть игрушки и уложил их к себе в кровать. Утром же переложил их обратно в коробку, задвинул под кровать, и затем с ними уже играла только сестра Ира, а я перестал. Но продолжил читать книги.
Когда сугробы были большими
Теперь уже доказано, что в середине прошлого века зимы были более суровыми и продолжительными, чем теперь. Первые морозы начинались уже в конце ноября. Примерно неделю можно было кататься на коньках по крепкому льду реки. А затем начинались снегопады, после которых мы ждали открытия катков, чтобы уже там покататься вдоволь.
Сразу по первому снегу вставали на лыжи, а через неделю- другую начинали кататься с гор на драндулетах – самодельных управляемых «экипажах» на коньках. Что-то подобное теперь используют спортсмены, но называют их тобогганом. На них мы развивали потрясающие скорости.
С приближением зимних каникул все с нетерпением ждали оттепели, чтобы построить ледяные горки и снежные крепости. В декабре обычно наваливалось столько снега, что наша горка получалась высокой и «работала» до середины марта.
На соседнем дворе находился питомник служебных милицейских собак. Перед ним расчищалась площадка, а весь снег со двора скидывали в громадный сугроб. Он был так высок, что мы в нем сооружали что-то вроде иглу в наш полный рост.
Такие громадные сугробы к февралю вырастали во многих дворах. Поэтому игра в «Царя горы» = становилась обязательным номером программы нашего времяпрепровождения.
Когда снега выпадало много, мы принимались прыгать в сугробы с крыш и заборов с таким расчетом, чтобы в воздухе сделать кульбит и почти встать на ноги.
Естественно, мы так вываливались в снегу, что приходилось долго отряхиваться, чтобы заявиться домой и обойтись без особых родительских укоров.
Это было замечательное время, когда мы были счастливы оттого, что много снега. А настоящим наказанием для нас звучал приказ родителей – не пойдешь гулять – ты наказан!
Как весна с зимой воевала
Приход весны – это, пожалуй, самое желанное время года. Но всегда, если чего-то ждешь, то оно не спешит и, кажется, вообще никогда не придет. Оставалось искать приметы приближения весны, которые появлялись уже в конце февраля!
Еще стояла крепкая зима, но солнце уже поднималось все выше и выше. И вот на южной стороне сугробов лучи солнца начинали плавить снег. Еще на улице мороз, но в полдень кое-где весна уже немного потеснила зиму.
Эти темные проталинки с южной стороны сугробов и были первыми территориями, освобожденными весной. И чем дальше, тем все больше и больше становилось отвоеванного ею пространства. И это радовало нас и наполняло предчувствием весны.
Проблема выбора… меры наказания
Теперь человечество спохватилось и борется за права ребенка, а судьи могут даже посадить родителя в тюрьму, если он ударит ребенка.
Не знаю, кем бы я стал, если бы не получал изредка хорошей взбучки. Хорошей – в смысле, несколько ударов ремнем.
Мы часто проказничали и за это получали адекватное наказание. То заберемся в чужой сад и отрясем яблоню-другую. То съедим семенные огурцы с грядки, и оставим хозяйку без семян на будущий год. То разобьем стекло из рогатки в чьем-нибудь окне, то однажды по неосторожности вытолкнули сестру Люсю в окно второго этажа. Часто уходили куда-нибудь без спроса, а дома начинали нас искать. Короче, изредка, бывало, нас вразумляли.
Отец предупреждал – если нашкодишь, то повинись. Я же молчал, как партизан, за что и получал соответственно. Прежде чем учить уму-разуму, батя спрашивал: «Каким ремнем хочешь быть наказан – „поднаганным“ или от портупеи?»
Выбор был невелик, но я считал, что надо выбрать тот ремень, который бьет слабее. «Поднаганный» ремень представлял узкую полосу из кожи. Использовался он для того, чтобы револьвер не выпал из кобуры при беге или скачке на лошади.
Ремень от портупеи – это широкий пояс с пряжкой и подвижными ремешками, на который подвешивалась кобура, а одно время даже шашка.
Я всегда выбирал ремешок поменьше размером, то есть «поднаганный», что говорило о плохом представлении законов физики. Одно обстоятельство извиняло мой промах – ее мы начали изучать много позднее, в шестом или седьмом классе. Но зато когда я стал ее изучать, то понял свою детскую ошибку в выборе меры наказания, и стал более внимательно слушать объяснения на уроках.
«Только через тряпочку»
Это заклинание я произносил, когда приходилось обрабатывать йодом мои раны. Царапин, порезов и ссадин, как у всякого мальчишки, было много в течение всего детства и даже юности. Все эти раны надо было помазать йодом, так как все знали о последствиях, если этого не сделать. И тут опять приходилось делать трудный выбор – бежать к родителям и терпеть боль от йода или перетерпеть ее и дождаться, когда кровь остановится.
Конечно, рану можно зализать самому, но еще лучше дать полизать ее собаке (нашему дворовому псу Бобику) или прибегнуть «к народному средству» – обработать собственной мочой. На мелкие порезы мы часто не обращали внимания, но бывали и крупные, тогда хочешь не хочешь, а надо идти лечиться.
Тут и случалась со мной некая странность. Я очень боялся боли от йода, и потому отчаянно кричал: «Только через тряпочку!!!» Меня успокаивали, как могли, и выполняли обещание – накладывали на ранку тонкий слой бинта и мазали через него йодом. Теперь-то понятно, что «тряпочка» служила только отвлечением от болезненной процедуры. Но ведь, вроде бы, помогало!
Иногда я все-таки при этой обработке начинал плакать, но меня укоряли: «А как же на войне ведут себя солдаты, если их ранили?» Мне становилось стыдно, так как искалеченных войной вокруг много, и можно было представить, что им пришлось вытерпеть при ранении.
Это съем, так дашь еще?
Когда минуло примерно десять лет после войны, жизнь стала понемногу налаживаться. Для женщин это время связано с появлением разного рода увлечений. В свободное время мама занималась вышивкой, шитьем и кулинарией. Особенно она отличалась любовью к стряпне и, в первую очередь, к выпечке.
Каких только пирогов она не пекла! Самыми вкусными, пожалуй, получались рыбники – с палтусом и зубаткой. Для этого пирога были нужны еще одни руки – отца. Он с вечера засаливал рыбу, порезанную тонкими кусочками. А утром отжимал из нее рассол и передавал маме. Дальше начиналось действо, и через час-другой на столе уже стояли пахучие пироги.

