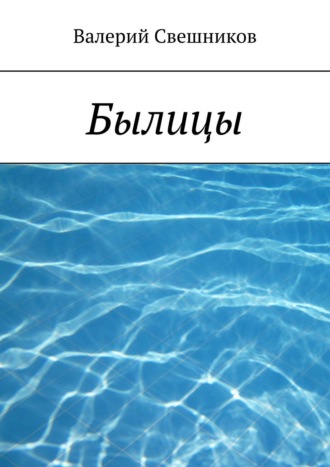
Былицы
А все потому, что в школе не хотелось ходить в буфет – там толклось много народу и не очень вкусно готовили. Вместо этого, гораздо лучше на перемене сходить в библиотеку, и посмотреть там новые журналы.
Одним из развлечений на рынке со временем стало чтение объявлений. Они бывали настолько парадоксальны, что часто вызывали дружный смех. Вот мы и соревновались в том, кто найдет более смешной «шедевр».
Часто писали о продаже одежды и мебели, бывало сообщали о торговле поросятами и цыплятами, но это случалось ближе к лету. А изредка появлялись сообщения о каком-то решительном изменении в жизни прежнего владельца, которое требует продажи всего хозяйства.
Так, сообщение «Продаю козу, фикус, пальму и столетник» почему-то вызывало представление о спешном отъезде женщины в дальние страны. Она уже все распродала и оставила напоследок самое ценное.
После рынка мы иногда заходили в хорошую библиотеку Облпотребсоюза, в этом учреждении работала мать Славки. Эта библиотека предназначалась для сотрудников, но имелись в ней и хорошие книги для детей среднего возраста. Там мы могли задержаться надолго, так как хорошую книгу выбрать трудно.
Потом мы направлялись вдоль крепостной стены и парка. Шли по бульвару, красивому в любое время года. Иногда в начале зимы по его краям появлялись раскатанные ледяные дорожки. Ни одну из них мы, естественно, не пропускали и катались с большим удовольствием.
Потом поднимались к красивому дому Засецких, в котором в то время находилась начальная школа. А за этим особняком стояли уже и наши дома.
Иногда мы шли по берегу реки вдоль Соборной горки. Нам хотелось глянуть, не замерзла ли река или не начался ли ледоход. С горки всегда открывался красивый вид на реку и наш любимый берег. Иногда там близ пологого спуска к реке устраивали ледяную гору. Тут сам бог велел скатиться разок-другой с нее – с почти самой большой в городе.
Время летело стремительно, и нам приходилось торопиться домой, потому что Славкина суровая бабушка держала внука под строгим контролем.
Для сокращения дороги от реки мы шли дворами. Самый короткий путь пролегал через владения соседей – Мыльниковых. Он «действовал» только осенью, зимой и в начале весны. А как только начинались садово-огородные работы, этот путь через участок перекрывался его рачительными и строгими хозяевами.
Зимой дорога по краю Соборной горки давала еще одно занятие, которое получалось только в оттепель. Мы лепили снежок и бросали его таким образом, чтобы он летел почти параллельно склону, то есть, как летом бросают камни, чтобы получились блинчики на воде. В оттепель такой снежок, коснувшись снега, тут же превращался в снежный шар, который, скатываясь по склону, иногда достигал больших размеров. Вот мы и соревновались – у кого получится самый большой ком снега.
Однажды в сильнейшую оттепель с обильным снегопадом мы шли по Соборной горке, как вдруг увидели, что на каждом столбе с наветренной стороны налип толстый слой снега. Мы начали ударять ногами по столбам так, чтобы этот снег обваливался. Так увлеклись этим занятием, что когда все столбы со снегом закончились, я обнаружил, что потерял калошу. Пойди, найди ее теперь под снегом. А калоша-то новая. Повесил виновато голову и пошел домой. Естественно, был нагоняй, хотя я объяснял, что найти калошу не было возможности – слишком много снегу выпало и много столбов мы «обработали».
Еще одна дорога привлекала нас, но ходили мы по ней не часто, так как она связана была с денежными тратами. Эта дорога начиналась с того, что, выходя из школы, мы поворачивали не в сторону дома, а шли в обратном направлении, но недолго. После поворота на улицу Сталина мы проходили небольшое расстояние и оказывались в магазине «Наглядные пособия». В нем продавали все, что может пригодится учителям географии, биологии, химии или физики.
Мы медленно передвигались вдоль витрин и пожирали глазами разнообразные приборы, колбы с пробирками, глобусы и карты, скелеты и муляжи. А уж электромоторчики, паровые машины и другие притягательные для нас изделия давали полное основание переименовать этот магазин в «Ненаглядные пособия».
Изредка мы что-нибудь там покупали. Самой памятной моей покупкой стал небольшой электромотор, я приспособил его к модели подъемного крана, собранного из металлического детского конструктора.
Наглядевшись на эти «сокровища», мы направлялись домой тоже через рынок. Для того, чтобы сократить дорогу, мы входили туда через проезд с улицы. Справа, сразу после входа в рынок, находился тоже притягательный магазин рыболовных и охотничьих принадлежностей.
Там висели ружья, лежали ножи и патроны, в углу в витрине стояли удочки и спиннинги. Короче, это был стимулятор творчества и воображения.
Но самое главное, эти впечатления порождали нашу фантазию, и желание что-то сделать своими руками. Через год мы стали мастерить свои рыболовные снасти. Первое, что мы пытались соорудить, – это катушку для спиннинга. Об этом этапе я уже писал. Но стоит сказать, что каждый элемент нашей корявой конструкции был темой для обсуждения. Так фантазии воплощались в жизнь. Пусть катушка наша оказалась не очень прочной, но зато крепкой стала наша дружба.
Так дороги в школу и обратно оказались путями, на которых мы становились немного другими.
НВП
В нашу школьную жизнь в девятом классе вторглась военная подготовка. При столь коротком сроке службы в три года, конечно, следовало нас заранее готовить к армии. Только тогда можно успеть сделать настоящих защитников Родины из этих желторотых допризывников.
Называлась новая учебная дисциплина «НВП», из чего следовало, что нам дадут начала военной подготовки. Перво-наперво, нас стали учить ходить строем, хотя на физкультуре мы тоже не толпой ходили.
Однако только военрук сразу ущучил, что наш одноклассник Олег К. ходит «иноходью», то есть правую ногу и правую руку поднимает одновременно. До этого момента никто не замечал этого изъяна не изъяна, а, скорее, особенности. Наш военный наставник зачем-то старательно искоренял иноходь у Олега, но чем она может помешать солдату на войне, мы так и не поняли.
Во всем остальном «Суворов» школьного масштаба оказался обычным разгильдяем. На вводных уроках он объяснил основы правильного прицеливания и стрельбы. А потом военная подготовка превратилась в самоподготовку. Чтобы мы не выходили из класса во время урока, военрук выдавал нам духовую винтовку, и каждому по десятку пулек, а потом исчезал.
Мы стреляли по мишеням, но свинцовые пульки быстро заканчивались, и приходилось придумывать их заменители. При первом же возникновении дефицита боеприпасов мы освоили производство «эрзац-пулек» из тетрадных листов. Брали полоску бумаги и туго скручивали ее, подгоняя под калибр духовой винтовки. Летели эти «пули» неплохо и били по телу довольно чувствительно. А куда еще стрелять, если они до мишени почти не долетали.
Искусством изготовления пулек занимались двое-трое ребят из класса, а остальные на НВП переключились на довольно любопытное занятие. Они шли в туалет и наливали там полный графин воды. А потом эту воду пили, но весьма занимательным способом.
Заводилой стал Валентин К. – самый высокий среди нас, и поэтому пользовавшийся некоторым авторитетом. Он придумал, а может быть, и задумал довольно странное упражнение. Инициатор наливал почти полный стакан воды, и пытался выпить его залпом, то есть одним глотком. Правда, получалось это не всегда, но зато имелось неограниченное количество воды, чтобы довести это умение до совершенства.
Остальные соревнующиеся старались не отставать от лидера в этом состязании и тоже, давясь, глотали воду стаканами. Примерно к концу учебного года почти все «спортсмены – допризывники» овладели этим странным умением.
На следующий год НВП уже не было в расписании. Но, как говорится, «талант не пропьешь», полученное умение осталось, и спустя десяток лет, возможно, пригодилось.
Несколько человек из «команды тренирующихся» на склоне лет пристрастились к зеленому змию. Поэтому, можно сказать, что их занятия на НВП дали возможность эту аббревиатуру понимать, как «навык водку пить».
Сквозь пургу
Ах, как мы ждали каникул! Пожалуй, посильнее, чем сейчас ждем отпуска. Нельзя сказать, что мы не любили школу. Скорее, у нас с ней получились сложные отношения. И поэтому в каникулы мы хотели новых ощущений, тех, что почти недоступны во время учебы.
Одним из таких занятий или, скорее, желаний отдохнуть от школы стала рыбалка. Ведь зимой ловля совершенно не похожа на летнюю, она другая, и не сразу скажешь, какая из них более интересна и увлекательна. На зимнюю рыбалку ездили в более далекие места. Тут был нужен кто-то из старших, который знал бы, как и куда добираться до рыбных мест.
В таком случае иногда выручали либо чьи-то знакомые, либо еще лучше друзья родителей. Хорошо, что у родителей их было очень много.
Это были друзья детства, знакомые по школе, у отца – еще армейские сослуживцы, коллеги по работе, а потом и соседи по даче. Очень часто дружба возникала в результате случайного знакомства или как результаты общения любительниц вышивания, членов общества охотников или рыбаков, но случались и другие пути сближения.
Меня удивили теплотой и душевностью дружеские отношения, возникающие у женщин, лежавших вместе в роддоме. И только когда мне исполнилось шестьдесят, в пору увлечения синергетикой, я понял, что это яркие и наглядные примеры быстрой социальной самоорганизации людей в сложных условиях.
Именно наличие множества общих интересов при этом приводит к возникновению тесных взаимоотношений между ними. В результате возникает дружба. А общие связи и интересы придают их дружбе аромат, крепость и что-то еще, что отличает каждую дружбу друг от друга. Так, если дружат три друга или подруги, то это не три дружбы, а шесть разных дружб!
У мамы было много подруг, но дружба с Леной Г. отличалась тем, что они как раз познакомились в роддоме. Началась дружба в то время, когда родился я у мамы, а у Лены – Наташа – моя сверстница.
Дружба их прошла испытания. У Лены в войну погиб муж. Правда, позднее она снова вышла замуж. Спустя год у подруги-Лены родился сын Станислав. Мама и Лена часто встречались, так как и жили они близко друг от друга. Так что общение продолжалось и выросло в хорошую дружбу.
Потом мы подросли. Случайно узнали, что муж Лены оказался заядлым рыбаком, и он изредка стал брать на рыбалку нас – сына Станислава и меня.
Постепенно у нас сложилась хорошая компания – кстати, это тоже пример возникновения дружбы. Муж Лены = Дмитрий Алексеевич был веселым, неунывающим человеком. Хотя с Первой мировой вернулся он малость покалеченным – на правой руке осталось три пальца – большой, средний и мизинец. Служил Д. А. оформителем витрин в магазинах, то есть по-современному – дизайнером.
Дмитрий Алексеевич слыл общительным, улыбчивым человеком, по характеру похожим на литературного героя – Василия Теркина. Как многие фронтовики, был не прочь «заложить за воротник». Иногда объем принятого зелья бывал больше допустимого.
Объяснял перебор он обычно тем, что его не так поняли. Друзья, мол, пригласили выпить, но я им строго сказал: «Ни-ни, мне много нельзя. Жена будет ругаться». Дальше наш герой рассказывал, что как друзья меня ни уговаривали, я, мол, стоял на своем – выпью свою норму и больше ни капли. При этом показал он им, сколько можно налить. Так ведь изобразили, мерзавцы, что не поняли и налили не столько (при этом он демонстрировал расстояние между большим и средним пальцами), а чуть больше (указывая на расстояние между большим пальцем и мизинцем покалеченной руки).
И еще бытовала одна примечательная черта у Дмитрия Алексеевича – он никогда не ругался бранными словами, а, махнув обреченно рукой, цедил сквозь зубы: «А-а, ко прахам!» Поэтому среди знакомых и друзей закрепилось его необычное имя – почти псевдоним: «Ко прахам».
В тот раз «Ко прахам» предложил мне и сыну Станиславу в зимние каникулы съездить на рыбалку на реку Лежу, в деревню Лобково. Я, конечно, согласился и быстро собрался.
Вообще-то зимой к рыбалке надо готовиться более основательно, чем летом. Помимо снастей и наживки, нужна теплая одежда и, естественно, еда. Все оборудование для рыбалки – ящик-шарманка для снастей, пешня – это тоже немалый, но необходимый груз. Так что навьючились мы основательно, и вечером пошли на пригородный поезд, который должен был нас доставить до станции Паприха.
Как нарочно, на город навалилась метель, но на вокзале этот падающий под косым ветром снежок казался небольшой помехой. И самый большой вред от него – это, возможно, плохой клев. К тому же «Ко прахам» нас взбодрил: «Охотка, не хлябай! Не грустить – сдюжим! А погода наладится!»
Вагон поезда поразил своей стариной. Потом в фильме «Идиот» пытались показать такой раритет, но мало что удалось. В этом двухосном вагоне почти не было перегородок, то есть никаких купе и полок. В центре его стояла буржуйка, в ней весело полыхал огонь, и было довольно тепло. Скамьи стояли рядами вокруг печки, а между ними оставался проход, чтобы пройти человеку с вещами. Мы устроились ближе к выходу, так как ехать нам всего минут сорок.
Кондуктор – высокая, громкоголосая и пышнотелая женщина – проверяла билеты и объявляла остановки. В своей черной форменной шинели с блестящими пуговицами она казалась местным царем и богом, точнее, богиней в форме.
В сумраке вагона, освещаемого двумя свечками в фонарях, каждое появление кондуктора оказывалось внезапным, и сразу возникала суматоха – кто-то спешил к выходу на остановке, а потом начиналась проверка билетов у вошедших на станции.
В тепле и сумраке вагона мы даже задремали, хотя каждое вторжение проволдницы немного мешало.
Вдруг мы оказались объектами ее внимания, и спросонья выскочили из поезда, чуть ли не в сопровождении стимулирующих пинков суровой вагонной богини.
«Ко прахам» пытался объяснить, что это не Паприха, а другая станция. Но в темноте и в метели что-либо увидеть было невозможно. Кондукторша, как монумент, стояла в дверях вагона, и было понятно, что она не допустит нас обратно в поезд. И тут и он показал свой коварный характер, взял да и тронулся. Он так быстро исчез в метели, что можно подумать – они с богиней в сговоре.
Через несколько минут оправдались опасения нашего предводителя. В пурге и ночной мгле мы обнаружили, что эта садистка в форме высадила нас раньше времени, на предыдущей станции. До нужной нам остановки придется идти еще пять километров, а может, и больше.
«Ко прахам» взбодрил нас каким-то афоризмом, но чувствовалось, что он понимал свою оплошность за утрату бдительности. Делать нечего, теперь надо добираться до нужной нам Паприхи. А единственный путь туда – это засыпанные снегом шпалы с рельсами.
Пурга все крепчала, снег на глазах заметал слабые следы прошедшего поезда – рельсов уже почти не было видно в темноте. Идти по шпалам, покрытыми снегом, было не очень удобно. Приходилось либо часто семенить ногами, либо широко шагать, а это любом случае очень неудобно и медленно. Как говорится, мы так накувыркались уже через полчаса, что стали идти все медленнее и медленнее.
И тут сзади стал нарастать какой-то свет. Мы поняли: нас нагоняет поезд. Быстро скатились в сугробы вправо от линии. Мимо прогрохотал в клубах пара и огнях паровоз с несколькими вагонами. Хорошо, что это был коротенький состав, и мы недолго отсиживались в кустах. Посмотрели ему вслед, и выползли на рельсы.
Тут я увидел, что из кабины паровоза над тендером через каждые несколько секунд вырывается какой-то красноватый сноп света. Он походил на телеграфные сообщения, передаваемые с помощью прожектора.
Хорошо, что мы понимали смысл, а точнее, бессмыслицу приступов шпиономании, бушевавших тогда. Ведь можно было бы принять этот свет от открываемой топки паровоза за сигналы азбуки Морзе.
Бывало встречались «бдительные» граждане, которые даже щелканье жучка-древоточца принимали за тиканье часов от мины и вызывали милицию или госбезопасность. Встречались и более курьезные случаи, но сколько совершенно безвинных людей пострадало из-за подозрительности нашего обывателя!
Через час-полтора мы все-таки вышли к Паприхе. Все, наконец, закончилось это хождение по путям. Тут «Ко прахам» стал настоящим нашим проводником.
Мы обогнули станцию и вышли в поле. Дмитрий Алексеевич объяснил, что надо найти нужную нам дорогу. Дело в том, что к станции тут подходят две дороги, а нам надо держаться правой из них. Но как в этой белой пелене найти ее?
Мы принялись бродить по снегу, стараясь нащупать ногами твердую дорогу, чтобы найти наш и только наш путь.
Наконец, нашли, но пошли, пожалуй, еще медленнее, так как все время ходили зигзагами и искали ногами дорогу. Уже казалось, не будет конца этому блужданию или что мы топчемся на одном месте, и никак не продвигаемся вперед.
Так устали, что даже не остановились, когда кто-то крикнул: «А вдруг тут волки!» Дмитрий Алексеевич успокоил, что в такую погоду волк не любит охотиться – следов не найдешь, и бежать по снегу не сподручно.
И тут впереди показался слабый огонек, наконец, мы вошли в деревню. Вокруг темнота и тишина, а избы, засыпаны снегом по самые крыши, темны и безмолвны. Ни одного огонька, кроме того к которому мы и вышли.
Фонарь «Летучая мышь» висел у довольно большой избы, скорее, даже северного дома. Около него стояли сани с поднятыми вверх оглоблями. «Ко прахам» пояснил, что мы вышли как раз к постоялому двору.
Поднялись в темноватую «залу». Там было сильно накурено, в нос ударил дым, ядреный от махорки. За длинным столом сидели человек пять или шесть и играли в карты. Над ними висела керосиновая лампа с жестяным абажуром. Светила она неярко, и как уж игроки разбирали масть карт, одному богу известно. Вдоль стен и по углам на полу вповалку спали люди. Хозяин предложил теплой картошки и поставил самовар.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

