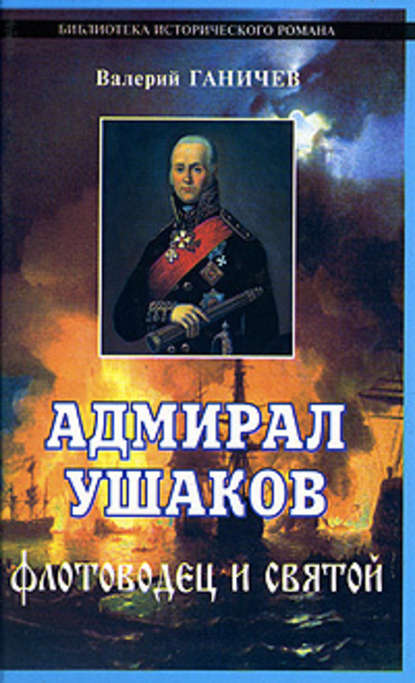По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Адмирал Ушаков. Флотоводец и святой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дед Василий дунул в трут и ткнул его в сухую траву. Огонь вспыхнул, и костер обозначил путь тихо скользящей по Волге барке.
У божьего служителя
После первого смотра сыновей в герольдии Федор Игнатьевич решил им показать Петербург. Ему не терпелось взглянуть на места, где прошла его гвардейская молодость, мать хотела с пристрастием осмотреть петербургские лавки. Конечно, только осмотреть, ибо рассчитывать на большие покупки после дорогостоящей поездки, затрат на корм лошадей, на еду не приходилось. Степан хотел увидеть оружие и развод караулов, о которых рассказывал отец, а младший Федя непременно желал узреть море и корабли.
Петербург его, конечно, поразил размахом своим, пышными каретами, возками, кибитками, что сновали туда и сюда вдоль улиц. Но особенно восхитился Федя, когда увидел тихо прошедшую под парусами яхту на Неве, она вышла из туманной дымки от Петропавловской крепости и медленно скрылась за одним из островов. Море он так и не узрел, далеко надо было ехать, отец не захотел.
– Пойдем сегодня в Александро-Невскую лавру, – сказал он в ответ на просьбу Федора. – Повидаем хоть этого несчастного, – проворчал он, взглянув на мать. Та промолчала, а Федор догадался, что пойдут к Ивану Игнатьевичу, о коем в доме часто заводили разговоры…
Когда вступили в главный собор Лавры, все как-то уменьшились в росте, притихли, поставили свечи во здравие и за упокой.
– Где тут Ушаков Иван служит? – обратился отец к приглядывающему за порядком монаху.
– У нас такого нету.
– Как нет, он тут с позволения императрицы у вас пострижен.
– А каково имя-то принял? Не Федор?
– Федор, кажется.
– Ну так ему досаждать не велено. И ныне он при деле богоугодном.
– А что за дело-то?
– Он при кружке подношений. А вы кто ему будете?
– Я брат родной, а это его племянники.
– Ну, то дело другое, – монах оглянулся по сторонам. – У кружки его сама императрица поставила. Он сие дело свято исполняет, и народ к нему валом валит. А нашито отцы и взревновали.
– Пошто народ-то идет? – с удивлением осведомился отец. – Аль святость в нем невидимая ранее появилась? – робко уже пошутил.
– Святой он! Святой! – с убеждением отвечал монах. – Подлинное благоговение вызывает у прихожан постным своим видом и добродетелями. Он в постоянном посту, молитвах и делах время проводит, сказывали, сам цесаревич Петр, – поднял вверх ладони и значительно посмотрел на начинающих робеть родственников, – Петр Федорович говаривал: в Александре-Невской лавре один монах – Ушаков! Пойдемте, я вас к нему отведу.
Он повел их к тому месту, где были прикреплены кружки для пожертвований, и вполголоса продолжал:
– Отцу Федору это дорого стоило. А его бессребреничество привело к тому, что все монетки до одной из пожертвований шли в казну церковную. А тут народ почувствовал, что сему монаху можно довериться. И шли к нему мужи с женами и детьми и просили, как быть им с детьми, в миру живущими. Он отказывался советы давать, отсылал к учителям монастырским, однако его вера убеждала и заповеди призывали: «Требующим от тебя помощи – не отврати». А так как живущие в нашей обители люди ученые, то видывали и начали вменять ему в обиду, что, миновав их, людей ученых, люди идут к простому старцу, и от них к нему зависть и ненависть. Они даже к митрополиту самому обратились, и тот запретил вход всем, кто говорил, что к Федору. Вот он! – с почтением кивнул головой монах на высокого худого чернеца, читающего негромкую молитву. Верующие, среди которых было особенно много молодых женщин, кланялись в такт его размеренному голосу. По окончании молитвы одни стали развязывать узелки, расстегивать карманы и кошельки, доставая оттуда монеты, другие сразу потянулись к кружкам, бросая туда зажатые в кулаке пятаки. Чернец поклонился людям и, выпрямляясь, встретился взглядом с Ушаковыми.
– Вот и хорошо, что пришли в храм Божий помолиться, – по-доброму, будто и не расставались, сказал он. – Пойдемте ко мне в келью, орешков детям дам, для белок припас. И зашагал неторопливо через двор к крайнему каменному строению. Стоявшему у входа и не пропускавшему их внутрь монаху сурово сказал:
– Сродственники. Брат мой родной с детьми. Монах в нерешительности огляделся и махнул рукой.
Когда зашли в келью, Федя поежился, – было прохладно и пусто, лишь в углу стоял сбитый из досок топчан да в другом висела икона с лампадой.
– Хорошо, что пришли, – повторил Иван, – попрощаемся, ухожу я в Саровскую пустынь.
Мать всплеснула руками, из глаз ее катились слезы. Отец сурово взглянул на нее, хмурясь, спросил:
– Что ты там, в той пустыни, не видал? – и обвел руками келью. – Чем у тебя тут не пустынь?
– То верно, везде можно людям служить. Но собрал я, брат мой, духовное братство из многих людей и со своими духовными учениками и ученицами, холостыми мужами, вдовами и девицами, отправляюсь туда на покаяние и поклонение. Некоторые из них у святого Синода даже исходатайствовали разводы, чтобы с нами поехать.
– Где та пустынь-то? – спросил не особенно знающий святые места отец.
– За Арзамасом в дремучих лесах, – объяснил Иван и обратился к младшему Феде: – Кем же ты будешь после герольдического смотра?
Тот зарделся и прошептал:
– Офицером морским!
– Всякая служба Богу угодна, – погладил его по голове Иван. – В миру будешь жить, мой отрок, а он бывает жесток и несправедлив. И моя судьба может послужить тебе уроком. Садитесь, – пригласил он всех, указав на топчан. Все сели, а Федя и мать, наверное, из почтения к святому человеку, остались стоять.
– Я ведь, ты знаешь, – обращался он почему-то только к Феде, – на военную службу был вчинен в гвардию. И здесь, в Петербурге, в таком славном месте увеселений и без особого тщания о своей душе служить стал, больше заботился о греховных сластях, коим с сотовариществом предавался. Однако же в один день, когда звучали вкруг нас, забавляющихся, гусли и свирели, паде внезапно один из товарищей моих на землю и умре без покаяния. То событие повергло мою душу в тревогу и боль. И решил я оставить всю сию жизнь мирскую и устремиться в полнощные края. Увидел я, что мир в нашем воображении не то, что божеской рукой создано, а то, что разумеем, что худое в мир грехом введено, а именно изменил мирские суеты, бесчестные другим примеры, вредные худыми людьми обхождения, всякие соблазны и препятствия к добродетельному житию, а потом решил я удалиться от мира и избрать себе состояние, в котором беспрепятственно хочу упражняться в богомыслиях.
– Однако же кто-то должен землю пахать да державу от врагов защищать, – сказал отец.
– И я не говорю, что уйти надо в бездельность. И здесь и в Саровской пустыни мечтаю, чтобы были все молящиеся при рукоделии, отогнав себя от праздности. Дары Богу действием хочу нести и от нечистот мира действом освободиться.
– Куда же ушел ты тогда-то, Ваня? – робко перебила мать.
– А… – махнул рукой Иван, – где я только не был. Отослал слугу в Ярославль, и там возле города переоделся я из мирских одежд в черную, убогую, яко труднику пустынному суща. Возле города, уже переодетый, – возвел глаза вверх, – встретился мне на возке дядя наш…
– Никогда он мне этого не рассказывал, – удивился отец.
– Да он меня и не познал в худой одежде. И я тогда решил окончательно: так тому и быть. В двинских лесах в Поморье оказался, а потом в Плащанской обители в киевских местностях. Мне там настоятель отказал в келье, а затем и выдали наряду воинскому, как беспаспортного, привезли в Петербург и прямо к царице.
– Во как! – со страхом и восхищением присвистнул Степан.
– Да! Ведь из гвардии не бегали раньше.
– Вот именно, – хмыкнул отец. – Что же она тебе сказала? Чай, не погладила по головке.
– Не погладила, но и не отсекла. Вопрошала: зачем ты из полку моего ушел? Для удобства спасения моей души, ваше императорское величество, я ей ответил. Тогда она мне дивное слово сказала: «Не вменяю тебе побег в проступок, жалую тебя прежним чином, вступай в прежнее званье».
– Ну так что ж ты зевал-то? – окончательно разочаровался в брате отец.
– Я ей ответил тогда, Елизавете Петровне, государыне нашей: в начатой жизни моей, ваше императорское величество, для Бога и души моей до конца пребыть желаю, а в прежней жизни и чина не желаю. Она тогда и рекла мне: «Для чего уходом ушел из полку, когда к такому делу и от нас мог быть отпущен?» Я же ей сказал, если б о сем всеподданнейше утруждал тогда, то верно было бы и сейчас, как убогий утруждаю, как в том случае. Рекла императрица: куда желаешь? Я и сказал тогда: в Саровскую пустынь. Она и ответила: пусть. Только останься, побудь в Александро-Невской лавре у кружки. И был пострижен я и наречен в честь святого нашего ярославского Федора. Хотел бы я, чтобы деяния того святого осветили и тебя, отрок – осенил он крестным знамением Федю. – Чтобы на путях дальних твоих были свершения великие. Думай же всегда о Боге, о ближних. А еще кто о ближнем не радит, тот, наверное, и веру нашу отвергает. Люби человеков, с коими будешь, и ждет тебя победа.
Страшно как-то было Феде, в душе у него что-то затрепетало и позвало вдаль, в неведомый доселе мир.
Морской кадетский корпус
1761 год обозначил судьбу Федора Ушакова. Он поступает в Морской шляхетный кадетский корпус. Регулярное морское образование в России к тому времени уже крепко укоренилось. Морской кадетский корпус, куда поступил Ушаков, имел славные и боевые традиции. Начало его восходит к Навигацкой школе в Москве, учрежденной Петром I. Указ, подписанный 14 (25) января 1701 года, гласил:
«Великий Государь, Царь и великий князь Петр Алексеевич… указал именным своим… повелением в государстве… своея державы… на славу Всеславного… Бога и своего царствования, во избаву же и пользу православного христианства быть математических и Навигацких, то есть мореходных хитростно наук учению». Петр сам недавно возвратился из Голландии и Англии, где прошел курс кораблестроения и морского искусства. Навигация и стала его страстью, а строительство кораблей – любовью.
Но на любовь свою он смотрел серьезно и требовал этого ото всех, кто связал свою судьбу с флотом.