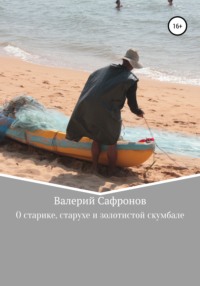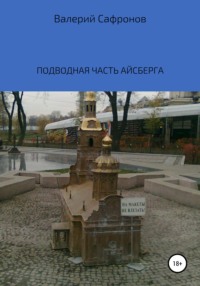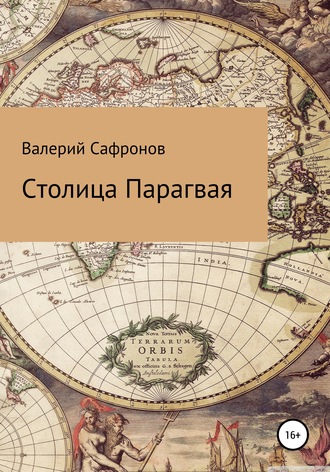
Столица Парагвая
На прощальном костре Игорь Иванович снова выступал с телепатическими опытами. Лагерного баяниста, усыпив, он заставил «удить рыбу», другой доброволец, уже из пионеров, изображал «белую лабораторную мышь». Наконец, предстояло выбрать последнего героя прощального пионерского костра. И тут все заголосили: «Природа! Природу на сцену!» И затем уже стали скандировать:
«При-ро-да! При-ро-да!!!»
Пришлось Природе лезть на сцену. Да он и сам, кажется, уже собирался, как фигура, неподдающаяся никаким животным магнетизмам, разоблачить фокусника, а заодно убедить всех в своих подозрениях. И тогда кто-то из пионеров, когда добровольца уже увели от сцены ассистенты, придумал необычное задание, выкрикнув из глубины зала:
– А пусть Природа изобразит корову и пожуёт веники!
– Какие веники? – не понял Игорь Иванович.
– А те, что висят на сцене!
А там действительно, на задней стенке висели свежие берёзовые веники, привязанные к сетке, вроде как украшавшие летнюю сцену.
– Не чересчур ли?.. – вслух подумал гипнотизёр, а затем усмехнулся:
– А, ладно, давайте…
И когда уже Природу привели обратно, гипнотизёр лишь поднял руку, и тут же мгновенно его усыпил, как удав суслика:
– Делай, что я тебе велю…
Галдевшая до этого пионерская аудитория затаила дыхание. Какое-то время Природа, словно лунатик, качаясь, бродил по сцене, будто не понимая задания. Так продолжалось несколько минут. Но гипнотизёр продолжал:
– Делай, что я тебе велю…делай, что я тебе велю…
И Природа, в конце концов, сделал, что ему велели: доплёлся, пошатываясь, до задней стены, встал на карачки, и принялся, словно бык-однолеток эти самые веники натурально жрать, причём совершенно не сплёвывая. В зале истерика, гогот и топот сотен счастливых ног, гипнотизёр и сам уже в три погибели от хохота, а веники вдруг посыпались Природе на голову, – дело в том, что он сдёрнул зубами сетку, на которой они висели. Как там было у советского классика: «Фома… я не ве…?! аллигатор вздохнул, и сытый в зелёную воду нырнул…»
Потом Лёня познакомится с опытами Михаила Куни, когда его «живая счётная машина», то есть кора головного мозга за считанные секунды производила умопомрачительные математические действия с большими числами, и ещё могла угадывать мысли на расстоянии. Как это: человек ничего не говорит, а психолог точно определяет, что тот задумал? Между тем нашего героя привлекал и животный магнетизм, то есть гипноз.
В те годы в Ленинграде работал профессор Павел Буль, практикующий техники гипноза. Поэтому Лёня решил поступать в Первый Медицинский, чтобы попасть в ученики Буля. Но вот так, сходу, поступить не удалось, требовалась серьёзная подготовка по некоторым предметам, а то, что давали в школе, было курам на смех. Учительница химии, к примеру, своеобразно объясняла понятие валентность:
– Кислород протягивает водороду две ручки, а водород ему одну.
– А водород, что, инвалид? – спросил однажды Лёня. Учительнице это не понравилось, и в результате в школьном аттестате красовалась тройка.
На военной службе его определили в химические разведчики, командир подразделения был выпускником Военно-Медицинской академии, то есть, по специальности врачом-физиологом. Узнав, что Пехтерев собирается в медицинский ВУЗ, взял его под свою опеку.
– Ты пойми, – говорил ему военный доктор, – В каждом деле главное система. Поэтому, вникнув в систему, легко освоишь любой учебный материал.
Доктор готовился к защите кандидатской диссертации и в свободное от службы время часами сидел с книгами, что-то записывал, чертил таблицы. Он быстро научил Лёню своей системе, к тому же хорошо разбирался в химии и физике. Такой подход к делу дал результат – после службы Лёня без особых проблем поступил в Первый медицинский. Однако попасть в ученики к доктору Булю не удалось. У Буля просто-напросто не было учеников. Единственное, что получалось, это прочесть его книги и периодически посещать лекции.
В эпоху реформ у психиатра Пехтерева юношеское увлечение неожиданно трансформировалось во вторую, щедро оплачиваемую профессию иллюзиониста. Сказались мощная природная биоэнергетика плюс обыкновенная ловкость рук при полном отсутствии жульничества. Ну, или почти при полном отсутствии. И вот что интересно: те же самые руки совершенно не умели держать отвёртку или паяльник, и эти предметы из них тотчас вываливались. А вот игральные карты и шёлковые платки в тех же самых руках почему-то начинали летать и даже парить в воздухе.
В один из дней подоспели ангажементы для международных гастролей. Отлично принимали в бывших соцстранах. Особенно в Венгрии, где Пехтерев задержался на пару лет, колеся по Балатону. В местечке Надьберень встретил Веронику, которая трудилась массажисткой в дорогом отеле, и вскоре стала его женой и верной помощницей – легко запрыгивала в ящик с двойным дном и пропадала в зеркальном шкафу.
«Русский Коперфилд!» – голосили малотиражные уездные газеты.
«Звезда европейского иллюзиона!» – вторило хилое местное телевидение. Вероника смотрела на него с восторгом и ужасом. У неё были светло-карие с поволокой глаза и тёмно-русые волосы. Мягкие стройные пальцы с каким-то особо нежным цветом маникюра.
Хозяйку отеля, где они познакомились с Вероникой, родом была из Чернигова, хотя венгры называли её американской миллионершей. Во время войны ещё подростком её угнали в Германию, а город, где она работала на химическом заводе, освобождали американцы. В неё влюбился молодой американец, и увёз в США. Вот так и стала «американской миллионершей». После смерти мужа перебралась в Венгрию, где купила кусок земли и построила отель. «Всё поближе к России…» – то и дела повторяла она.
– А в России купить отель побоялась! – говорила Вероника.
– Немудрено, – отвечал Леонид, – Они ведь здесь даже понятия не имеют, что такое рэкет. Спрашиваю как-то у владельца маленького кафе, мол, рэкет не донимает? Он отвечает: а что это? Ну, говорю, дескать, когда за определённую плату обеспечивают крышу. А он снова не понимает: в Венгрии хорошие кровельщики! Ну, я, в смысле «крыша» – это прикрытие. А он, пожимая плечами, – а полицейский тогда зачем?..
– Да уж… тёмные люди, что с них взять… – смеялась Вероника.
Через год перебрались в Сербию.
– У нас озолотишься! – обещали импресарио.
– Вы уверены?
– Сербы доверчивы и обожают фокусы!
Вскоре начались и фокусы, теперь уже в виде «гуманитарных» бомбардировок самолётами НАТО Белграда и его окрестностей. Квартирная хозяйка тяжко вздыхала:
– Ночью пришли и увели сыновей…
– Кто?
– Военные. Говорят, в Косово увезли…
В Порто Монтенегро удалось попасть на паром. Адриатика расшалилась не на шутку. Тёмно-серые водные глыбы, напоминавшие ожившие скалы побережья, терзали видавшую виды морскую посудину. Пехтерев фотографировал волны. В какой-то момент показалось, что волны, замирая на мгновение, ему позируют, и стало немного не по себе.
– Ты только посмотри, – теребил он Веронику за рукав, – Они живые!
– Мы потонем? – спрашивала Вероника.
– Ну, что ты, – он проводил мягкой ладонью по её шёлковым волосам, – Что ты… на флоте есть такое понятие: живучесть корабля. Мы даже и не представляем, какой силы может быть эта живучесть.
– А живые волны? – повторяла Вероника, мелко стуча зубами от страха.
– Ну, что ты, что ты?!
В Римини был успех. Вероника предложила мелодии Нино Рота в виде музыкальных оформлений его выступлений. С тех пор каждый номер сопровождался увертюрами из фильмов Феллини. Знаменитый итальянский мистификатор родом был из Римини, и это добавляло популярности.
«Chi no puo imparare l,abici non si puo dare in mano Biblia» – кто не способен выучить азбуку, тому нельзя давать в руки Библию» – твердил самоучитель итальянского языка. Итальянский привлекал мелодичностью форм и мудростью содержания. Или наоборот, сразу и не поймёшь. Впрочем, как и близость любимой женщины. Казалось, раньше Вероника только и делала, что изучала секреты Камасутры. Каждому свой талант.
В Римини он выступал на эстраде местной эстакады, выходящей далеко в море. Жили на самом берегу в маленькой гостинице. Серое море то и дело уходило, обнажая илистое дно, по которому бегали крабы. Можно собирать прямо в корзинку вместе с ракушками мидий.
«Basomaria-altromaria» означало прилив и отлив. Гостиница по-итальянски «albergo». Хозяйку отеля звали Альберта. Короче, Альберта из альберго. Пехтерев преуспевал в изучении итальянского. Вероника тормозила. Путала понятия. Зайдя в магазин, приветствовала продавцов:
– Арревидерчи!
Что означало: «до свидания».
Альберта скользила по гладким половицам своего отеля, словно изящная баркета по волнам Адриатики и была неравнодушна к Леониду. Иногда её томные взгляды бросались в глаза посторонним.
– Я её задушу… – обещала Вероника.
Если бы не многокилометровый пляж, отнятый у моря предприимчивыми северянами, Римини представлял бы собою заурядное захолустье. Правда, из Римини можно сгонять в Сан-Марино – миниатюрное государство в горах. Или Венецию. Но Венеция задыхалась от туристов, а Сан-Марино обойдёшь за час. В целом, в Римини можно было бы неплохо жить. Но потом с гастролями не пошло: сменились местные власти и чтобы продолжить лицензию, требовалось дать взятку.
– Никуда не денешься – мафия, – объяснил импресарио.
– Я был уверен, что в Италии с мафией покончено раз и навсегда, по крайней мере, на севере?! – огорчился Пехтерев.
– Вы нам льстите.
– Я буду плакать две недели… – обещала Альберта.
– А потом?
– А через год буду ждать в Римини.
– А я тебя обязательно задушу! – дружелюбно улыбалась Вероника.
Паром, теперь уже в Грецию, оттуда на остров Кипр, где под псевдонимом «Граф Калиостро» он колесил с гастрольным чёсом по отелям 3 года. Конкурентов не было. Появлялся, время от времени, какой-то ленивый Мистер Мэджик, демонстрирующий фокусы из репертуара дореволюционного цирка. Разве это конкурент? Так, для разгона.
– А теперь мистер Мэджик вам продемонстрирует удивительные фокусы с белыми мышами! – в момент усталого раздражения ворчал Пехтерев.
– С бэлыми мушшынами! – хохотала Вероника, выходя из душа.
– Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья! – говорил он.
– Это Вознесенский?
– Это Пастернак.
Однажды в Аянапе повстречалась компания однокурсников. Пехтерев решил: узнают сами, таиться не будет, а нет, пусть остаётся интрига, вроде он, а вроде и нет. Однокурсники, скорее всего, его не узнали. Что не мудрено: очень уж загадочный был образ: парик с прямыми белокурыми волосами, спускающимися до плеч, в широкий разлёт брови, горбатый, похожий на клюв, нос, усиленный специальными средствами. Правда, Кипр такое место, где рано или поздно кого-нибудь встретишь снова. Ну и что? Мало ли сейчас бывших врачей, сменивших профессию? Кто-то на эстраде, кто-то в бизнесе, кто-то на подиуме. На панели, слава богу, вроде никого пока нет, и ладно.
«Надо выходить на большой простор, на большой простор…» – повторял то и дело он. Вероника не прекословила. Она вообще никогда не возражала. Надо, значит надо. Единственное, чего хотела Вероника, это ребёнка, и ещё, конечно, в Ленинград, в Питер. Странно, они ровесники, жили буквально через два дома на примыкающих друг к другу улицах: Пехтерев на Кирочной, Вероника на Таврической, а встретились на Балатоне.
– Отработаем этот контракт, и домой! – обещал он, пощипывая бородку.
– Может быть, желаете в Южную Америку: Колумбия, Боливия, Эквадор? -
спросили как-то в Никосии предприимчивые латиноамериканцы.
– Где Парагвай? – усмехнулся Леонид.
– Osaso (возможно) и даже, por lo visto (наверное), ciertamente (конечно)!
– А столица Парагвая по-прежнему Асунсьон?
– Асунсьон, Асунсьон!
– Паэлья? – спрашивал Борхес, импресарио, когда они шли обедать в знакомую таверну.
– Большую сковородку, – соглашалась Вероника.
– Вино?
– Вода без газа и кофе эспрессо, пор фавор (пожалуйста)…
Граф кивал в ответ и направлялся к свободному столику.
– Сегодня нежарко, – говорила Вероника.
Пока Борхес делал заказ, Вероника смотрела Графу в глаза и гладила руку.
Граф помалкивал. В голову лезли мысли о предопределённости.
«Достиг я высшей власти…» – сказал однажды Пушкин устами Бориса Годунова. Ну, и что, собственно? Достиг того, о чём всю жизнь мечтал?
Но ведь и действительно, вся эта история началось ещё тогда в середине 80х. Причём, от какой-то совершенно незначащей точки отсчёта. Никоим образом несвязанные, на первый взгляд, вещи: начало перестройки в СССР, неурядицы по службе, свергнутый диктатор Стресснер, бред сумасшедшего Мухина. Казалось бы, какая во всём этом событийном хаосе взаимосвязь?
Если смотреть с высоты птичьего полёта, Асунсьон выглядит очень даже и привлекательно – беленький такой, в сизой дымке на берегу широкой и быстрой реки. А вблизи, ничего особенного – большая каменная деревня.
– Теперь уже можно никуда не спешить, – почему-то подумалось вслух,
– Perce? (почему?) – переспросил Борхес.
– Потому что Володька сбрил усы, но может, и я на что сгожусь…