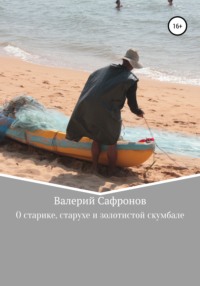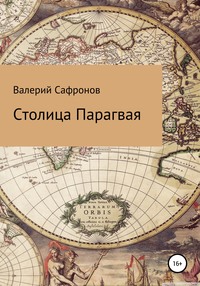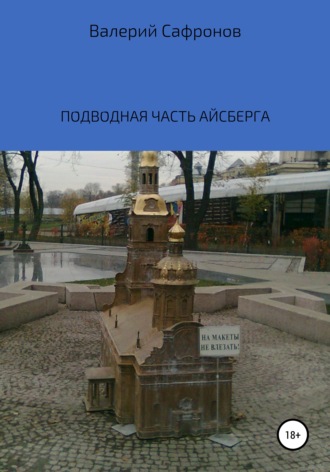
Подводная часть айсберга

Валерий Сафронов
Подводная часть айсберга
ТРИ СОВЕТСКИХ СТУДЕНТА.
Студенты Гигиенического факультета – армянин, грузин и русский, субботним вечером отправились в ресторан. В былые времена, имея пять рублей, можно было нормально поужинать и выпить, между прочим, неплохо. С червонцем же ты вообще был финансово горд и независим, и мог заказать своей девушке бутерброд с икрой, шампанское и мороженое.
В общем, отдыхали они, эти три студента, за отдельным столиком, потихонечку выпивали, понемногу закусывали, поглядывали на лиц противоположного пола. Когда заиграли белый танец, к ним подскочили две девицы, по виду работницы с фабрики «Красная нить», цветущие, политически грамотные ткачихи. Они пригласили грузина и русского, армянин остался на месте. Он развалился в кресле, закинул ногу на ногу и, покуривая «мальборо», стал крутить на безымянном пальце перстень.
Слово за слово, русский разговорился со своей партнёршей, грузин вроде помалкивал. Между прочим, партнёрша спросила русского о его приятелях. Кто, мол, они такие, случайно не иностранцы? Русскому было и скучно, и грустно…накануне он поссорился со своей любимой девушкой, и чтобы как-то встряхнуться, стал плести какую-то чушь про то, что приятели его – эпидемиологи из Италии, приехали в Ленинград на симпозиум, а он – аспирант института Гриппа – их российский гид. И вообще сегодня он очень устал, поскольку с раннего утра показывал зарубежным гостям город со всеми его достопримечательностями, где они только не были, а сейчас вот зашли поужинать. Партнёрша выпучила глаза, и, потеряв к русскому всяческий интерес, принялась разглядывать армянина с грузином. Когда наступила музыкальная пауза, русский сел за столик и ввёл приятелей в курс дела. Те оживились.
– Как говорят в Италии? – спросил грузин, – С каким акцэнтом?
– Ваймэ! – сказал армянин, – Уж явно не с твоим акцэнтом, Нугзар! Так что ты лучше помалкивай, а разговаривать буду я: дольче бамбино, рагацци, удинезе-кремонезе, интернационале, беля чао! Ну как?
– Прекрасно! – сказал русский, поглядывая на соседний столик, за которым симпатичные ткачихи оживлённо обсуждали услышанную от него новость.
– То, что надо, Сурен! Ты разговариваешь, как неаполитанский мачо.
– Витя, а что он сказал? – не понял грузин.
– Перечислил названия итальянских футбольных клубов.
– Ва! И я так могу: Гурия Ланчхути, Динамо Тбилиси, Торпэдо Кутаиси!
Сурен захихикал, а Витька заметил:
– Не стоит, Нугзар. Лучше уж будь молчуном. Это романтичнее.
– Пачэму?
– Потому что у вас в Палермо всэ так ходят!
Нугзар кончиком ногтя снял белую нитку с рукава кожаного пиджака.
– Палэрмо?
– Это в Сицилии, биджё, не слыхал?– снова захихикал Сурен и поправил на шее цепь из жёлтого металла.
– Всэх зарэжу! – Нугзар схватил столовый нож и наколол на него кусок хлеба.
Девицы едва дождались следующего танца. Оркестр не успел ещё толком грянуть про то, что: «У нас молодых впереди года, и дней золотых много для труда!», как Сурен и Нугзар были сметены со своих мест двумя особо бойкими барышнями, а к Витьке, похоже, утратился интерес. Ему даже стало обидно. «В конце концов, и я мог выдать себя за итальянца. Допустим из Милана…мой папа – концертмейстер из театра Ла Скала, а мама… кто же у меня мама? Ах, да! Мама служит в отделе кадров. Интересно, есть в театре Ла Скала отдел кадров?» Витька посмотрел на свои скороходовские штиблеты и вздохнул. «Какой, на фиг, папа-концертмейстер?! Да и денежки уже тютю, всему есть предел, сколько же можно пить за чужой счёт…»
Витька посидел-посидел, опрокинул рюмку, закусил столичным салатом. Затем выкурил сигарету из суреновой пачки и отправился в гардероб, по дороге ловя себя на мысли, что внимательно слушает идиотскую песню о том, как «наши руки не для скуки, для любви сердца, для любви сердца, у которой нет ко-он-он- ца-а!»
Утром позвонил Нугзар.
– Слуший, брат, выручай! Мы толко из милиции. Кафе «Уголок» знаешь на Лиговском-шмыговском?!
Нугзара перебил Сурен:
– Да не «Уголок», а «Уголёк»! Прямо за углом…ай-яй-яй! Надо 100 рублей, а где их брать?!
– А я-то, откуда возьму?
– Займи у кого-нибудь…может, у мамы? Через три дня отдадим.
– И что я ей скажу?
– Скажи, что у Нугзарчика бабушка заболела…
– Думай, что говоришь, э-э?!
В трубке что-то шипело, гудело и ухало.
– Витя, генацвале, у Сурена калцо забрали и цеп! В милиции сказали, что своровал. Слуший, какой своровал?! Это он у Акопа калцо взял, а цеп брат двоюрОдный дал…
– Пока штраф не заплатим, сказали, не отдадут! Ай-яй-яй…
«Всё правильно, маме кадровице папа концертмейстер как раз только вчера получку принёс. Мама, правда, всё переживала, что денег маловато…»
Через час Витька был на Лиговке. Сурен и Нугзар заплатили штраф, им вернули цепочку и перстень. Из милиции вышли беззлобно переругиваясь.
– Говорил я, что к тебе надо ехать, а он: «обчежитие, обчежитие…»
– Какой ко мне, слуший?! Квартирная хозяйка последний раз говорила, чтобы не было никаких баб!
– Сначала всё нормально было. Приехали в общежитие, достали вино, фрукты…
– Бутылку портвейна и три мандарина.
– Выпиваем, туда-сюда, танцы-шманцы, да? Ткачихи про Италию расспрашивают, я конечно, про Везувий им рассказал, затем про собор святого Петра Первогою
– Слуший, какого Петра Первого, э?! Ты им про Вэнэцию врал, что по улицам одни шлупки едут и эти, гандоны.
– Гондолы, вайме?!
– А дальше? – спросил Витька.
– А дальше пришли какие-то мужики. Какие, говорят, это итальянцы? Грузины с рынка! Нугзар орёт: «Орёл с говном нэ разговаривает, грузин на рынке нэ торгует! Там живут азербайджанцы!»
– А те отвечают, для нас одна хрень, потому что все вы только и делаете, что наших девок лапаете!
– Настоящие ткачи! Зарэжу!
– И что?
– Что-что?! Комендант прибежал, мат-перемат, ай-яй-яй! Этот коменданту поджопника дал. Такое началось: бокс, борьба, олимпийские игры!
Сурен схватился за грудь, затем пощупал пульс и промокнул носовым платком выступившие на лбу капли.
– В общем, не целованные, так и ушли?
– Какой поцелованный? Я говорю, зачем это делаешь, милиция-шмилиция?! Может, я на нём жениться хочу.
– Это на ком, на коменданте?! – не понял Витька.
– На нём, на этом, на ткачихе.
– Зря.
– Сам знаю, что зря! Менты руки заломали, пиджак порвали. Я пиджак и джинсы у Гоги брал, что я ему теперь объясню?
– Скажешь, что заступался за честь девушки.
– Какого девушки, слуший?! – от волнения Нугзар стал путать русские и грузинские ругательства, затем распахнул пальто.
– Вот, посмотри, э?
На пиджаке отсутствовал правый рукав, виднелось одно волосатое предплечье и татуировка с символикой военно-воздушных сил и надписью «Север». Некоторое время шли молча. Затем Сурен сказал:
– Ты, Витя, во всём и виноват. Зачем это придумал?! Итальянцы, итальянцы, а сам ушёл.
– Больше не буду.
Зашли в метро. Роясь в карманах, долго искали мелочь. Затем опустили пятаки в щель автоматов и поехали вниз по эскалатору. Возле перехода с Площади Восстания на Маяковскую разошлись в разные стороны.
– Ну, пока. Деньги через неделю отдадим.
– На лэкции завтра не забудь отметить.
– Сам не забудь.
КАК РАБОЧИЕ ЛЮБИЛИ КИРОВА.
В советские времена в Ленинграде, где Кирова только не было. Его именем даже академический театр оперы и балета был назван, вероятно, как лучшему другу всех балерин, не считая стадиона, дворца культуры, проспекта, района, моста и бог знает ещё чего. Сейчас остались лишь Кировский завод, небольшая улица, площадь и несколько памятников. Один, самый внушительный, до сих пор стоит на площади своего имени. В форменном картузе, пальто нараспашку, со вскинутой правой рукою, спиной к бывшему Кировскому райсовету. Архитектором данного проекта был некто Н.А. Троцкий *. Имел ли Ной Троцкий какое-либо отношение к Льву Троцкому, неведомо. Ну, да и бог с ними.
Всегда считалось, что ленинградские рабочие очень любили Кирова.
То есть, буквально души в нём не чаяли. А после каждого публичного выступления натурально стаскивали с трибуны и уносили куда-то на руках.
А уж когда в конце 34 года на Кирова напал троцкист Николаев, вроде как из ревности высадив в него всю обойму из нагана, то и вовсе пролетарская любовь, словно разбушевавшаяся Нева, вышла из берегов и устремилась к иным рубежам, охватив всю страну. Одних городов, связанных с именем Кирова насчитывалось потом никак уж не меньше десятка, появились даже Кировоград, Кировобад и Кирово-Чепецк. А писательница Антонина Голубева увековечила, спустя годы, героику борьбы и подвига Кирова в дилогии: «Мальчик из Уржума» и «Рассказы о Серёже Кострикове».
В 1970 году страна и всё прогрессивное человечество с чувством небывалого подъёма подходило к столетнему юбилею Ленина. Поэтому вселенская любовь рабочих к Кирову стала неактуально и отошла на второй план.
В один из хмурых мартовских дней электромонтажники тянули проводку через проспект Стачек, который пересекал Кировскую площадь в Питере. Вначале при помощи монтажного пистолета рабочие загоняли в стену дома специальный гвоздь, а после приспосабливали к нему кронштейн, на который закреплялся металлический провод. Работа сложная, если учесть, что связана с высотой, да ещё ветер и снег. К одиннадцати часам утра все продрогли, и бригадир отправил самого молодого монтажника в ближайший гастроном. Слегка разогрев традиционным способом себя изнутри, работяги приступили, было, ко второй части своей юбилейной трудовой вахты, как вдруг выяснилось, что закончились какие-то детали для крепежа провода. То ли специальные скобки, то ли ещё что-то. Зато гвоздей для монтажного пистолета, хоть на моржовый промысел с ними иди. Уселись они на лавочке в сквере, перекурить, а в метрах двадцати перед ними сам Киров на постаменте во всей своей большевистской красе, который тут же и привлёк их внимание.
– Интересно, из чего сделан Киров, из гранита? – спросил самый молодой монтажник.
– Разбежался! – проворчал монтажник средних лет, – Не иначе, бронзовый он, или вообще, из титана.
– Дык, сейчас проверим! – сказал бригадир и зарядил гвоздь в пистолет.
«Дзды-ы-ы-ннь…» – металлически отозвался Киров, после того как бригадир нажал на курок.
– Не понял, – хмыкнул бригадир, – Странный какой-то звук, но на титан явно не тянет.
– Дай-кась, – попросил монтажник средних лет, и вторично засадил по памятнику.
«Дзду-у-уууу-унннь…» – понизив тональность, обиделся Киров, и самому молодому монтажнику даже показалось, что памятник сурово насупил брови.
– Стальной… – заключил бригадир, убирая пистолет в сумку.
– Дайте мне, дяденьки, последний разок, – стал умолять бригадира молодой монтажник, поскольку в нём ещё не угас интерес исследователя. На сей раз памятник издал какой-то лязгающий звук, вероятно гвоздь угодил в гранитный постамент, но в эту секунду перед ними затормозил милицейский наряд, и рабочих отвезли в кутузку.
– Знаете, какой срок вам полагается за вандализм? – спросил их следователь.
Монтажники не знали, а следователь уточнил:
– До пяти лет. А если учесть, что порчу памятника герою революции вы учинили накануне юбилея товарищу Ленину, то вам ещё и добавят, как антисоветчикам.
В общем, перспектива вырисовывалась невесёлая. Дело, наверное, и сразу бы могло разрешиться, и рабочих бы отпустили, скорее всего, накостыляв им для порядка по шее, но неприятность заключалась в том, что наклепал на них какой-то персональный пенсионер, разглядевший из окна, как монтажники палят своими гвоздями по памятнику. И, кроме всего прочего, оказались затронутыми личные чувства пенсионера к Сергею Мироновичу, и он в красноречивом заявлении на имя прокурора города потребовал сурового наказания ревизионистско-троцкистским наймитам.
– Если будет надо, я и до Смольного дойду, но этого дела так не оставлю! – грозил поклонник Кирова в отставке.
В конце концов, дело дошло до идеологической комиссии Горкома КПСС.
– Вы там что, все с ума посходили?! – разорались в Горкоме на следователей, – Работягам политику шьёте? Срочно выпустить!
– А с какой квалификацией?
– Да с любой! Оформите мелкое хулиганство, и коленом под зад. Хоть бы внимательнее посмотрели, как бригадира монтажников зовут… Владимиром Ульяновым! Это, что же получается, Владимир Ульянов, и палил в Кирова?!
– И, главное дело, что накануне своего юбилея, – хохотнули следователи.
– Что?! – не поняли в Горкоме.
– Да это мы так, про себя…
Выпустили их, конечно. И, говорят, бригадира Ульянова даже к награде потом представили. Такие вот метаморфозы с этим памятником. А что, до сих пор стоит, и никому вроде бы не мешает…
* Ной Абрамович Троцкий, советский архитектор. Помимо проекта Кировской площади им так же разработан проект Большого дома на Литейном.
** Антонина Григорьевна Голубева, советская писательница. В сталинские времена – Лаурет госпремии за рассказы о Кирове.
МЕСТО ДУЭЛИ.
Хорошо ходить пешком. Особенно, когда на улице погожий июньский денёк. Повсюду свежесть листвы, на асфальтированных дорожках тополиный пух, в окружающем пространстве кратковременный шум убегающей электрички, на смену которому является статичный гул пикирующих над цветами шмелей.
Возле железнодорожного переезда, что на станции «Новая деревня», одного прохожего средних лет, идущего бодрой походкой и чему-то добродушно улыбающегося, останавливает долговязый незнакомец с унылым лицом и стеснительными манерами.
– Можно вас спросить, уважаемый?
«Не иначе, денег сейчас попросит…» – думает прохожий, – «Как же они надоели, эти алкаши! То в метро клянчат, то в магазине… теперь вот, и здесь стали привязываться».
– Я извиняюсь…
«Хотя, вряд ли. На попрошайку долговязый не похож, рубашка чистая, штиблеты модные, на шее цепь…»
– Видите ли…
«Уборную, наверное, ищет. А я-то, откуда знаю?!»
– Я бы хотел у вас спросить…
«Интересно, а где здесь уборная-то? На платформе нет ни единого здания».
– Мой вопрос несколько необычен…
– Даже и не знаю, что вам ответить… – разводит руками Прохожий, – Если только где-нибудь в придорожных кустах сможете разрешить этот свой необычный вопрос.
– Что вы сказали? Да нет, – машет рукою Долговязый. Не в этом дело.
– Тогда, в чём же?
– Я бы хотел у вас узнать, где находится… место дуэли Пушкина?
– «А почему не дом старухи-процентщицы?!» – про себя усмехается Прохожий, но тут же напускает на себя солидности.
– Только и всего-то? А я уж было подумал… так оно здесь и находится. Вот, через дорогу сквер с тополями и липами, а посередине памятник! Видите, там скамеечки ещё?
– А почему, тогда говорят, что место дуэли на канавке Чёрной речки? – не отстаёт Долговязый.
– Ну, так недалеко и Чёрная речка, вон, метров двести. Только там вроде бы никогда не было никакой канавки…
– Вот там?! А где ж тогда лебеди?..
– Какие ещё лебеди?
– Ну, те самые, в канаве, в канавке… ведь говорят же, что место дуэли было именно возле канавки на Лебяжьей набережной Чёрной речки, напротив Сенатской площади?!
"Наверное, ненормальный…" – думает Прохожий, и от нетерпения начинает топтаться на месте, словно жеребец перед скачкой, при этом оглядываясь по сторонам, – "Лебедей каких-то приплёл, да ещё Сенатскую площадь?! Или просто зубы мне заговаривает, а потом раз, и все денежки тю-тю?!"
Но для чего-то вдруг пускается в пространные и назидательные пояснения:
– Ну, уж, на Сенатской площади происходили совсем другие события.
А именно – восстание декабристов. И к дуэли Пушкина с Дантесом это не имело никакого отношения. Но вот вы спросили про набережную…
– Да-да-да! Где же эта набережная?
– Хм, набережная… да как же им было стреляться-то на набережной? Ведь вокруг люди, прохожие, а вдруг какая-нибудь шальная пуля?
– Шальная пуля, говорите? – Долговязый подозрительно смотрит на Прохожего, – Не думаю, что шальная пуля, потому что я читал, что Пушкина застрелил вовсе даже и не Дантес!
– Господи, а кто ещё? – Прохожий уже и не рад, что вступил в этот странный диалог.
"Нет, точно, ненормальный!"
– Вовсе даже не Дантес, – не отстаёт Долговязый, – А специально подготовленный киллер, спрятавшийся в кустах канавки на Лебяжьей набережной Чёрной речки!
– Да бог с вами, не было там никакого киллера! В Пушкина стрелял только Дантес, и это подтверждается свидетельствами всех очевидцев дуэли.
– Нет, был киллер, потому что люди зря не напишут!
– Да ерунда это всё! Чушь! Или, вообще, просто чей-то плод воспалённого воображения. Надо же, ещё и киллера выдумали?! Бедный Пушкин…
– Был киллер, был, это совершенно точно!
"Как же от него отвязаться-то?"
– Вы что, мне не верите? Вы уже печатному слову не верите?!
– Хорошо-хорошо! Вы, главное, не нервничайте! Не нервничайте главное! Ну, был киллер, был, и специально прятался в кустах, – пытается успокоить своего собеседника Прохожий.
– Так я и не нервничаю!
– Нет, нервничаете, я же вижу! Но всё-таки набережной тогда никакой ещё здесь не было. А вокруг был лес, зайцы с волками, в лесу полянка. Встретились с Дантесом в условленное время…
– А киллер?
– Хорошо-хорошо, киллер, замаскированный под снеговика, сидел уже на дереве и смотрел в оптический прицел… затем договорились об условиях поединка, разобрали пистолеты…
– Пистолеты? Какие ещё пистолеты?!
– Что значит «какие»? По-моему, одной старинной французской или бельгийской системы… не из рогаток же им было стреляться с Дантесом?!
– С киллером!
– Хорошо-хорошо, с киллером! Правда, ну, сами подумайте, как Пушкину было стреляться-то с киллером, условия ведь неравны?! Но, вы, главное, успокойтесь, успокойтесь, главное…
– Так… – Долговязый словно о чём-то вспоминает. Затем делает трагическую гримасу и трогает себя за кадык. После поворачивается к своей спутнице, появившейся так же внезапно, и молча вставшей рядом с Прохожим.
"Ну, точно, сейчас на деньги начнут разводить, мошенники…" – пугается Прохожий, – "Кстати, а где мой бумажник-то?"
Возникает немая сцена. Надо бы уже уйти, в конце-то концов, но Прохожий не решается тронуться с места, обдумывая план своих предстоящих оборонительных действий:
"Оглушу Долговязого сразу же портфелем по башке, затем ладонями по ушам, коленом в промежность, а дальше буду действовать по ситуации…"
Но Долговязый какое-то время помалкивает, лишь морщит, то и дело, лицо. Снова трогает себя за кадык и сердито покашливает. Затем поворачивается к спутнице.
– Странно, ты оказалась права…
– Как права? В чём? – не понимает Прохожий, но на всякий случай прикидывает вес портфеля. В портфеле том Большой Советской энциклопедии, бутылка коньяка и кило апельсинов. Вес вполне подходящий.
Спутница берёт Долговязого под руку, и они, даже не попрощавшись, тотчас исчезают в придорожных кустах, видимо торопятся на электричку. До Прохожего долетает фраза, сказанная напоследок спутницей Долговязого:
– Я же говорила, что дуэль у Пушкина была где-то здесь, а ты: «На набережной канавки, возле Сенатской площади, в Летнем Саду!»
Прохожий какое-то время продолжает стоять, пытаясь переварить весь смысл только что сказанного, но по-прежнему, ничего не понимает. Затем приходит в себя, в задумчивости делает первые пару шагов, и понемногу набирает прежний темп, возвращая лицу добродушную улыбку.
КУШЕЛЕВКА.
Каждое время имеет характерные краски и запахи. В середине 70х на алюминиевом фоне преобладали багровые лозунги, и в подъездах пахло жареным хеком и мокрыми валенками.
Придя с военной службы, Вова Кутузов устроился на хладокомбинат грузчиком. Само по себе название «Кушелевка» не говорило ни о чём. При царе горохе эти земли на окраине Петербурга принадлежали какому-то знатному вельможе, потом их скупил купец Кушелев, отсюда и название.
Теперь пригородная электричка пролетает Кушелевку без остановки.
И многие пассажиры, рассеянно глядя в окно, видят неказистые склады. Несколько позже количество складов поубавилось, и кое-где появились жилые дома. Между тем Кушелевский хладокомбинат, словно щупальца, распростирал крепкие объятия своих складов на несколько вёрст вокруг.
Любой мегаполис знаменит архитектурой и памятниками. Только без складов всё равно не обойтись, и чем больше складов, тем богаче и город.
Первый объект, куда попал Вова, была мойка консервов. Говяжья тушёнка произведена много лет назад, и когда подходил срок санитарной проверки, металлические банки пропускали через специальную мойку. Если банка от высокой температуры вспучивалась, её браковали, а к ровным банкам приклеивали этикетку и пускали в продажу.
Партия тушёнки, которая проходила мойку в момент, когда там появился Вова, датировалась 1942 годом. Об этом рассказал бригадир. Тембр его голоса сопровождался каким-то низким гудением, отчего собеседнику казалось, что бригадир сидит в железной бочке. К тому же бригадир являлся кандидатом в члены партии, и это обстоятельство придавало его фигуре значительности. В свободные от партийной работы часы бригадир разъезжал в пространствах цеха на погрузчике. И представлялось, ездит не с конкретной целью, а для удовольствия, натурально танцуя на своём транспортном средстве. Всего погрузчиков было два: вторым управлял хмурый кривоногий дядька похожий на Франкенштейна, как позже выяснилось, старший грузчик. Франкенштейн ездил одними зигзагами.
«Интересное дело, – думал Вова, – в 1942 в Ленинграде была блокада, люди голодали, а где-то в закромах лежали целые склады мяса!»
За длинным конвейером сидели полтора десятка женщин и приклеивали к банкам этикетки. В конце конвейера стояли рабочие с молотками в руках, которые заколачивали ящики с банками. Работа нехитрая и первые три часа непрерывного труда у конвейера пролетели быстро. Оба рабочих, те, что с молотками, встретили Вову приветливо. Тот, что маленький и большеголовый, наверно сорокалетний, то и дело кричал куда-то вдаль, вызывая таинственного Колю, а во время перекура протянул руку:
– Лев Иваныч меня зовут!
– Как вратаря Яшина! – уточнил другой рабочий, лохматый и длинный.
Тот внимательно посмотрел в глаза и церемонно поклонился. Вова назвал свое имя и фамилию.
– Я так сразу и подумал, что тебя назвали в честь набережной Кутузова! – усмехнулся лохматый.
– Почему это?
– Когда вошёл, по радио заиграли увертюру «1812 год».
Вова пожал плечами:
– Я на флоте служил.
– Интересное кино, а я в авиации!
Лохматый помолчал, словно что-то припоминая, затем представился:
– Нил Балагуров, актёр театра имени комиссара Ржевского, а Лев Иваныч у нас главный осветитель текущего момента.
– Какого комиссара? – растерялся Вова.
– Ржевского! – повторил Нил.
– Это он так шутит, – осклабился Лев Иваныч, – Я слесарь сборщик с Большевика.
А Нил спросил:
– В художественной самодеятельности участвуешь?
– Участвую! Играю в Гадком утёнке умирающего лебедя.
– Я так и знал!
– Почему знал?
– Потому что каждый фельдмаршал при отступлении исполняет танцы маленьких лебедей! Нил перешёл на громкий шёпот:
– Предупреждаю, нас теперь трое, и всё это добром не кончится!
– А при наступлении, что исполняет фельдмаршал? – спросил Вова.
– При наступлении он поёт Свадебный марш Мендельсона!
Нил Балагуров никаким актёром не был, больше дурачился. Он пришёл из армии раньше Вовы на полгода, действительно служил в авиации в подразделении укладчиков парашютов, и собирался в театральный институт.
– Нам доверен самый ответственный участок работы, постольку – поскольку партия и правительство денно и нощно осуществляют продовольственную программу! – сообщил бригадир, и от его гудящего голоса задрожали сложенные в штабеля консервные банки, на которых ещё не было этикеток. Наступил получасовой перекур, поэтому все рабочие уже вышли из цеха.