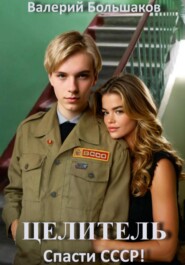По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Задыхаясь, я легко подхватил Алёну на руки и унес в спальню.
* * *
Проснулся я засветло. Шевельнулся – и ощутил слабую тянущую боль. Муравчики пробежали по всему телу.
«Я вернулся?..»
Да… Вон мое пластиковое окно… И завешано не тюлем, а дурацкими еврожалюзи. Хм… И 1967 год мне приснился? Ага… Чтоб ты еще придумал! Забыл уже, как с Аленкой занимался тем, чего в СССР нет? Три раза, до самого утра…
«Неугомонная…» – мягко улыбнулся я, и меня тут же продрал морозец.
Если всё у нас было по правде, если ты реально угодил в прошлое, то сейчас Алёна – старуха. Время, время…
Погрузиться в философический омут мне не дали ласковые руки, огладившие мои шею и плечи. Я пристыл к дивану, совершенно ошалев, а мне в спину уткнулись две тугие округлости.
«Алёна… здесь?!»
Быстро перекатившись, и вовсе перестал дышать. На меня, игриво улыбаясь, смотрела Марина. Она откинула жаркое одеяло, и прильнула ко мне.
– Милый… милый Тик… – сбивчиво шептала девушка. – Знаешь… Я проснулась под утро – и перепугалась. Вдруг, думаю, всё было сном, вечерней грёзой, и ты вовсе не выходил вчера, не искал меня, не увел от глупых подружек… И мы не гуляли допоздна, и ты не целовал мне шею, да так, что мои ноги слабели, как у школьницы… А потом я открыла глаза – и увидела твою спину. Сама же ее всю исцарапала! И сразу такое счастье…
Я не разумел, чье время тянет мою мировую линию, и что за пространство вокруг. Да какая разница! Мы лежали в постели, я и Марина. Вместе! Так близко, как только могут быть мужчина и женщина.
У меня внутри всё сжималось и трепетало от детского или животного восторга. Остановись, мгновенье? О, нет! Пусть оно длится и длится, до бесконечности!
– Ты не представляешь, – выговорил я отрывисто, – как долго я мечтал исцеловать… Шейку? Да, и ее! Всю тебя, от ушек до пяток!
Девушка засмеялась, свободно и заливисто, а затем легла на спину, поджав ноги.
– Постучи! – хихикнула она.
Я сел, и постучал по ладной коленке.
– Войдите! – пискнула Марина, и раздвинула ножки.
* * *
Возлюбленная ускакала в универ, а я еще долго валялся, отходя от чудес последних суток. Моя жизнь завязала хитроумную временную петлю, угодив мне полностью – и через край.
Я медленно встал, глянул на измятые простыни, и засмеялся.
Мир оборотился ко мне своей прекрасной стороной – с влюбленными так бывает.
Напевая, я обошел квартиру, ища отгадки, и нашел их в кабинете. Монитор компа чернел в спящем режиме, а моя рабочая тетрадь лежала, раскрытая на середине. Страница выдавала нервный, но красивый почерк, не чета моему:
«Здравствуй, Игнат.
Меня зовут Марлен. Марлен Осокин. Я из 1967 года. Спасибо тебе! Всегда мечтал попасть в будущее, увидеть, как потомки живут при коммунизме! Я не знаю, как это у тебя получилось… Я вообще ничего не знаю, и не понимаю! Где ты? А я? Я тут навсегда или на время? Если ты читаешь мою записку, значит, второе верней.
Сначала я перепугался, ощутив себя сразу как бы в двух временах, но в драке разошелся, мало соображая, кто бьет, я или ты, или мы оба. И опять вернулся в свой мир. Расстроился страшно, хотя толком не понимал, что побывал в будущем. А потом опять! Вот сижу и думаю – вернусь или не вернусь? На всякий случай: можешь оставлять записки в сейфе. Код: В141. У Алены свой ключ, она может прочесть, а так нельзя. И объясни, как пользоваться твоей микроЭВМ! Ладно?
Что происходит – тайна. Хочется ее разгадать, но… Потом! Сначала просто насмотреться, пожить хоть денек в XXI веке!
Марлен.
P.S. За Марину прости, на всякий случай. Я как-то ощутил, что она тебе нравится. Но говорить ничего не буду, вообще – все слишком тонко, а пошлости не выношу».
Я медленно закрыл тетрадь. Улыбнулся будущему, улыбнулся прошлому. Я не ведал, что случится сегодня, и произойдет ли вообще что-нибудь? Может, полоса кудес миновала меня, и накатили обычные будни? Ну, и что? Марина обещала прийти сегодня вечером – и остаться до утра понедельника…
«Счастье, стой!» – как восклицала Диана де Бельфлор.
Глава 2
Глава 3.
Вторник, 11 апреля. Утро
Приозерный, улица Горького
«Селезнев П.С.» оказался крепким мужиком в годах, и смотрел на меня с ироничным прищуром, как бы снисходя до моей срамной доли – фотать для «брехунка». Осаживая рефлексии, я потискал ему руку, он торопливо кивнул, докуривая папиросину «Север», и встал со вкопанной скамейки. Дескать, давай, корреспондент, играйся в фотосессию! Мне, вон, по такому случаю, и спецовку новенькую выдали…
– Становиться куда? – лениво вытолкнул Селезнев, щелчком отправляя окурок в урну.
– Обойдемся, Петр Семенович, – спокойно ответил я, следя за траекторией полета «бычка», – позировать мне не надо. Сейчас же, вроде, вечерняя выпечка?
– Ну… да, – насторожился водитель.
– Так вы грузите хлеб, а на меня не обращайте внимания!
Селезнев недоуменно пожал плечами, и натянул черный берет – не отличишь от Папанова в роли Лёлика.
А я расчехлил драгоценный «Киев-10». Камера стоила двести девяносто рэ, чуть ли не три моих зарплаты, и уж как она досталась редакции «Флажка», как ласково именовали «Знамя труда», не ясно.
Снимать я, в общем-то, умел. Хотя и был обделен тем тонким чутьем, что отличало истинных фотохудожников, но иногда получалось очень даже неплохо. За это надо сказать спасибо нашему соседу дяде Виле – научил мелкого меня обращаться с «Зенитом-6».
«Не кривись, – брюзжал он, – все эти ваши электронные мыльницы – полное дерьмо, лишь бы фотки-однодневки щелкать. «Джипеги»… «пэдээфы»… Да сотрутся они за годы, распадутся на пиксели, а вот нормальные, настоящие фотографии переживут века! Разве что пожелтеют чуток…»
На работе я «щелкал» японским «Никоном», а для души доставал «Зенит». В нем скрывалось нечто изначальное, родственное виниловым дискам. Вот, вроде бы, цифровая запись качественней, но, когда раскручивается «винил», а игла касается звуковой дорожки… Лично меня в этот момент потрясает подлинность грамзаписи – она гораздо человечней бездушных компьютерных программ. Кажется, что исполнители только что напели вживую, для меня одного.
Как-то раз взял с собой великую поклонницу «цифры» – завел ее в фотолабораторию, затеял рутинную магию с проявителем, фиксажем и прочим колдовством. Девчонка пищала от восторга, стоило изображению протаять на фотобумаге – фигуры медленно проступали из ничего, обретая «и плоть, и страсть»…
А иного в шестьдесят седьмом и нету!
Селезнев, как я и ожидал, преобразился, занятый привычной работой. Он ловко загружал буханками лотки, да относил их к «газону» с будкой, косо отмеченной надписью «ХЛЕБ».
Там я его и подловил – поймал в движении. Петр Семенович как раз примеривался уложить лоток, а тут я. Оживленный, водила расплылся в улыбке – так его пленка и запечатлела.
Заметку я настрочил вечером, а с утра отнес в редакцию, лично в руки Наташке, довольно миловидной машинистке, что печатала со скоростью пулемета.