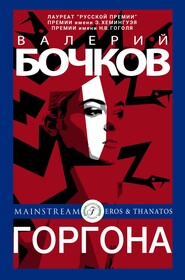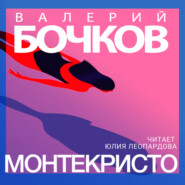По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сады Казановы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот если бы её сюда заманить – представляешь?
Без энтузиазма я пожала плечом.
– Алкоголь, немного кокаина. Музыка атмосферная, нью-эйдж типа или «Сигур Рос»… – его лицо выглядело неопрятно, борода, бабьи губы красные. – Да-да, я думал про это, думал, если грамотно организовать, то очень даже может сработать! Очень!
До меня дошло, что он здорово пьян. Ливень продолжал хлестать с какой-то инфернальной яростью. Мне стало жутко до мурашек, как это бывает в скверном сне.
– Она ж, Брунгильда, будет себя ощущать в безопасности, понимаешь, я же вроде как с тобой, самки никогда не опасаются самца, если он с другой самкой.
В саду полыхнуло белым, тут же шарахнул гром. Я вздрогнула и оглянулась, в большом окне отражалась комната, рога на стене, два голых тела на фоне дивана. Кулик схватил меня за шею – зло и больно.
– Какая же ты дура, Злобина! Ты сама не понимаешь своей власти! Я ж видел, у Брунгильды глаза василиска – сапфиры, алчущие лакомств, когда на тебя глядит – сладострастные, похотливые глаза! Ты ж нецелованная мышка, тайный персик, монашья целка – вот ты кто! Маленькая чертовка – да! С тебя сериал снимать надо из жизни древней Эллады про греческую рабыню с мальчишеской грудью, про танцовщицу на канате или финикийскую гетеру!
Он зарычал и звонко хлопнул в ладони. Из сада ответила могучая канонада. Он усмехнулся и одобрительно кивнул.
– Пиши, что любишь! Люби, что пишешь! Впусти с себя жизнь, отдайся ей! – Кулик замахал кулаком перед моим лицом. – Пусть она тебя вздрючит, эта сука жизнь! Только так! Только так можно стать настоящим мастером – через боль, через страдание, через любовь! Через смерть! Понимаешь ты, манда татарская, через смерть?!
7
Слова эти я уже слышала раньше – в аудитории, не про манду татарскую, про писательское кредо мастера. Не очень ясна была логическая взаимосвязь с групповухой: с его подростковой фантазией оттрахать меня и Рудневу на пару. И ещё – откуда такая уверенность, что он нас двоих потянет? Техника исполнения и артистизм, продемонстрированные Куликом полчаса назад, заслуживали от силы вялую троечку.
Он продолжал орать, авторитетно и с надрывным пафосом, жестикулируя и выставляя руки картинным манером, заученно и нелепо. Вдруг запнулся и замолчал. Неожиданно помрачнел, схватил меня за щёки и стиснул. Понизив голос, прошипел:
– Ты что ж, думаешь, мне самому это по нраву? Перед вами, мокрощёлками, наизнанку душу выворачивать? На всю группу таланта – во! – Кулик выставил мизинец. – С гулькин…
Гром перекрыл матерное слово.
Он принялся ругать писателей, называя фамилии и обидные клички. Особенно досталось авторам экранизированных книг. Так – тупо, зло и неизобретательно – матерится пьянь с рабочих окраин. Никогда прежде я не слышала от него такой грязной, такой грубой брани. Пафос сменился глухой злостью. Исчезла плавность жестов. Он побелел лицом, даже ярко-алые губы поблекли.
– У меня ж первая публикация в пятнадцать лет была! Журнал «Дружба народов»! Премия «Дебют», премия «Лицей», – он азартно хлопал ладошкой по голой ляжке, – премия «Русский Букер»! «Букер», твою мать, Злобина! Тебе, зассыхе, такого не видать во веки веков – ты это хоть понимаешь? Сука! Сволочь! Мразь!
Он вцепился в голову руками, точно хотел содрать лицо с черепа. Зашёлся в кровавом рыке – царь Эдип, ничуть не меньше. Рык перешёл в стон, стон – в тихий вой. Он сгорбился, сник, стал будто мельче и младше, притих нищим переселенцем на богом забытой пристани. Съёжился и замер. Лишь изредка беззвучно всхлипывая горбатой спиной.
8
Когда я вернулась из ванной он уже спал. Мельком взглянула – рот был приоткрыт с детской невинностью, руки раскинуты, удивлённые ладошки глядели в потолок. Придерживая на груди концы полотенца, я вплотную подошла к окну. За моим чёрным силуэтом отражалась жёлтая комната. Я попыталась разглядеть своё лицо, в силуэте была лишь чернота, внутри которой хлестал серый дождь.
Больше мне тут делать было нечего.
Происшедшее, включая дорогу, заняло чуть больше трёх часов. Облегчения от завершения всей этой мерзости я не испытала никакого. Наоборот, догадка, промелькнувшая в начале, обратилась в уверенность: всё останется по-прежнему, словно меня тут никогда и не было. Даже если я буду возвращаться сюда снова и снова хоть тысячу лет.
Я вышла в прихожую. Распахнула дверь, ливень ворвался грохотом водопада. Пахнуло промокшей сиренью, ночью, грозой. Фонарь над крыльцом освещал сад, глянцевый и тёмный, моргающий мокрыми бликами. По плиткам дорожки неслись потоки дождевой воды. У забора, уткнувшись в сиреневый куст, стояла машина, на который мы приехали – старая «королла» морковного цвета.
Дальнейшее произошло как-то само собой, без особого участия моего разума: я отбросила полотенце и голой вышла под ливень. Сбежала по ступенькам – стремглав, совершенно не боясь поскользнуться. Неслась во всю прыть – как бегала девчонкой. Лужи оказались почти тёплыми, дождь тоже.
Я пронеслась по мощёной дорожке, с разбега вскочила на капот «короллы». Полый металл гулко ухнул под моими пятками. Капли звонко барабанили по корпусу машины, точно били в пустую железную бочку. Ловко – одним махом – я запрыгнула на крышу. Раскинула руки крестом, подставила лицо ливню. Начиналось самое восхитительное, самое главное, – то, ради чего стоило возвращаться сюда.
Я смеялась, захлёбываясь дождём, хохотала, кажется, что-то кричала. Экстаз, переходящий в истерику, словно кто-то пытается защекотать тебя до икоты, до слёз, до смерти. Да, как в детстве, когда от хохота можно напустить в трусы.
Я размахивала руками как птица, прыгала. Крыша гремела и прогибалась под моими крепкими пятками. В дешёвой японской жести оставались вмятины, но мне было плевать на крышу. Мне было плевать на всё! На приличия и условности, на нормы поведения в обществе и правила хорошего тона. На успех, славу и богатство – плевать-плевать-плевать!
Плевать на всю эту дурацкую жизнь, которую мы устроили с единственной целью – мучить друг друга.
То был апофеоз свободы, триумф безнаказанности. Миг абсолютного счастья. Миг, ради которого стоит жить. Миг, за который не жалко умереть.
Как всегда, молния шарахнула внезапно. Каждый раз застаёт врасплох, даже когда ждёшь и тебе кажется, что ты готова. Я лишь успела задрать голову. Ослепительно белый шар лопнул прямо надо мной и разлетелся холодным фейерверком, из центра шара зигзагами вырвались искрящиеся щупальца, одна из щупалец целила мне прямо в макушку, она неслась вертикально вниз, как копьё.
На мгновенье время остановилось – капли ливня застыли в полёте, синие электрические брызги замерли острыми осколками вдребезги разбитого стекла. Неоновый перпендикуляр почти коснулся моей головы. Я успела услышать гром – то был треск разрываемого напополам чёрного неба.
Часть вторая
Там
9
Моим соседом оказался суетливый мертвец с внешностью некрасивого итальянца-южанина с громким смехом и ухватками карточного шулера в маскарадном камзоле с золотым шитьём и кружевным воротником из реквизита какой-то комедии Бомарше вроде «Севильского цирюльника». Этот Фигаро пару раз пытался заговорить со мной, но я делала вид, что сплю. Под конец поездки я действительно задремала. Когда проснулась, итальяшка приставал к соседу справа, лысому прокопчённому старикану с внешностью отставного марсельского грабителя.
– Настоящий живописец не может не любить запаха краски, – мрачно оборвал старикан итальянца. – С этого и начинается искусство – с запаха! Великое искусство!
– Кстати, – подхватил моментально тот, – мой брат тоже художник. Благодаря моей рекомендации он получил заказ на роспись шпалер в резиденции кардинала Аррузио…
– В задницу твоего кардинала! – заорал лысый. – И брата тоже! В жопу!
– Весьма и весьма! – не унимался Фигаро. – Вы же помните моё приключение на острове Корфу, ту уморительную историю с мёртвым бараном? Ни разу сердечная склонность не нарушила на Корфу моего душевного покоя: разве только случилось у меня приключение с дочерью прачки, о котором говорю лишь потому, что благодаря ему расширились познания мои в физике. Остановлюсь, с вашего позволения, на этом подробнее…
Кто-то тронул меня за локоть. Смуглая женщина в сари изумрудного цвета с оранжевым цветком на груди – она сидела слева и глядела на меня оленьими глазами. На лбу у неё была нарисована тёмно-красная точка – бинди.
– Вам, европейцам, непросто всё это понять, – она ласково погладила мою руку. – Пестуй муладхару и обретёшь силу прыжка лягушки. Двумя пальцами выше ануса, двумя пальцами ниже йони, на четыре пальцы в ширину…
– Любопытно, что восточная традиция, – тут же встрял итальянец, – не только оправдывает феминическую мастурбацию, но и считает её непреложным условием взращивания чувственности и культивации эроса у особей прекрасного пола…
Индианка ласково ему улыбнулась, а до меня дошло, что на лбу у неё не бинди, а входное отверстие от пули малого калибра. Итальянец воодушевлённо продолжил:
– Для девочек здесь нет большой опасности, ибо они могут потерять лишь весьма малое количество вещества, которое к тому же происходит из иного источника, нежели зародыш жизни у мужчины. Однако есть у нас доктора, полагающие, что бледность у девиц происходит именно от этого.
10
Впереди показался вокзал. Циклопическая конструкция, похожая на Вавилонскую башню, отлитую из матового стекла. Текучесть линий и гибкость форм сочетались с филигранной кропотливостью отделки – изнутри здания сочился мягкий свет. Прозрачные капсулы, вроде нашей, бесшумно проникали внутрь. Зрелище напоминало демонстрацию работы ловкого механизма, часового, скорее всего, швейцарского, или какой-то затейливой игрушки для развлечения монарха, придуманной гениальным художником-изобретателем, – как если бы Леонардо да Винчи стал богом и получил безграничную возможность воплощения своих безумных конструкций.
Их было много, этих перламутровых капсул, и двигались они скоро, однако плавно и легко, точно скользили по невидимым рельсам. Никаких рельсов не было по причине отсутствия сил трения и тяготения, впрочем, и остальные законы земной физики здесь особой роли не играли тоже, что вкупе с невозмутимой тишью персикового неба, сливочной белизной перистых облаков и чувством ленивого покоя невольно наводили на мысль о загробной жизни.
За моей спиной кто-то меланхолично произнёс:
– Самое удивительное, что всё это может находиться внутри одной снежинки.
Другой голос шёпотом отозвался:
– Или на острие иголки.