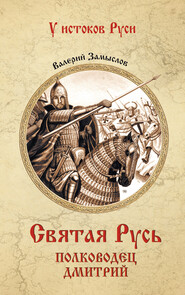По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Святая Русь. Княгиня Мария
Серия
Год написания книги
2002
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Олеся (вот уж сердце-вещун!) вышла с липовой кадушкой к журавлю. Увидела высокого молодого мужика в голубой льняной рубахе, и кадушка выскользнула из ее руки.
– Лазутка! Любый ты мой!
Счастливо заплакала, зацеловала, заголубила, и лишь спустя некоторое время, когда на руках супруга оказались все трое ребятишек, обо всем поведала, добавив в конце:
– Ты уж не серчай на меня. К отцу и матери я припоздала. А мужиков и баб с ребятенками пожалела, ослушалась тебя и с собой взяла.
– Да кто ж тебя винит, любушка? Молодец, что взяла. А бортник где?
– С мужиками ушел лес корчевать. Мужики-то надумали пашню орать, кое-кто с житом приехал.
– Далече ли?
– Версты за две. Там не густой перелесок. За неделю управятся.
Мужики встретили своего бывшего старосту и с удивлением, и… с напряженным ожиданием. Чего-то скажет человек боярина Корзуна? Да и другое волновало: чем закончилась сеча с погаными?
Лазутка повел разговор с последнего:
– Вести мои будут неутешительны, мужики. Почитай, вся рать на Сити погибла. Сложил голову и наш князь Василько Константинович и брат его Всеволод Ярославский. В живых остался лишь Владимир Углицкий.
Мужики понурились.
– Никак крепки татары? – мрачно вопросил пожилой коренастый мужик Силуян с рыжеватой бородой.
– Не столь крепки, сколь многочисленны. Каждый наш воин бился с десятком ордынцев. Будь у нас новгородская и киевская дружины, не быть бы со щитом татарам. Бросили нас эти князья, да и не токмо они, вот и пришлось биться из последних сил.
– А что великий князь?
– На Юрии Всеволодовиче самая большая вина. Он все дружины по деревенькам распустил и сторожевой полк неудачно поставил. Ордынцы к сторожевым подкрались и всех перебили, а когда на стан великого князя напали, он токмо тогда начал дружины расставлять, но поставить полки так и не успел. Основной удар приняло на себя войско Василька Константиновича с его братьями. Князю Юрию Всеволодовичу ордынцы саблей голову отсекли. Взяли нас татары в кольцо, но кое-кому удалось прорубиться, и мне с боярином Корзуном.
– Выходит, живехонек остался наш боярин? – подал голос все тот же мужик Силуян. И непонятно было: то ли радуется оратай, то ли он огорчен.
– Был поранен, но остался жив.
– Да и у тебя на щеке отметина, – изронил один из мужиков.
– Ордынец сабелькой прогулялся. Слава Богу, вскользь.
– А что слыхать о наших Угожах? – с робкой надеждой спросил другой мужик, худосочный, с острыми, бегающими глазами.
Лазутка вздохнул.
– Нет ныне, Вахоня, ни Белогостиц, ни Угожей, ни других поселений.
Мужиков эта новость омрачила больше других. Бабы заревели, а мужики еще больше насупились: нет тяжелее известия о гибели родного очага.
Лазутка, увидев вместо своего дома черное попелище, долго не мог прийти в себя. Жалость и злость заполонили его душу. Когда думал о свирепых ордынцах, скрипел зубами. Отомстить, отомстить извергам!
Поехал к боярину Неждану Корзуну и зло бросил:
– Ты вот меня к семье отпустил, а я как увидел свой спаленный двор, так нет у меня иной думы – вновь с погаными схватиться. Поеду татар сечь, они ныне по всем уделам рыскают.
– Глупо, Лазутка. Один в поле не воин. Ну, как богатырь, срубишь несколько голов и сам ляжешь. Велик ли прок?
– Так как же быть, Неждан Иваныч, как быть? – сжимая рукоять меча, горячо спросил Лазутка.
– Как? Нам теперь одно остается – выжидать и копить силы, а уж потом вдарить. Терпи!
Прав боярин: на одном полозу далеко не уедешь. И впрямь надо терпеть. Настанет и для татар гибельный час.
С теми чувствами и поехал к лесной избушке бортника…
Удрученные сосельники мяли в натруженных руках войлочные колпаки, тяжко вздыхали и все почему-то поглядывали на Силуяна.
«Знать, большаком выбрали», – невольно подумалось Лазутке.
Так и есть: Силуян кинул на старосту цепкий, схватчивый взгляд и напрямик вопросил:
– Никак, к боярину нас сведешь? Аль, может, самому князю донесешь?
Лазутка отозвался не вдруг, замешкался. Не простой вопрос подкинул Силуян.
– А что-то Авдеича среди вас не вижу.
– Был с утра, а затем в лес убежал борть искать. У него своих дел хватает, – пояснил Вахоня.
– Так-так, – неопределенно протянул Скитник и уселся на выкорчеванное дерево. Думал, скребя черную, кудреватую бороду. Если уж быть честным, то надо непременно боярину о мужиках доложить. Вотчины его обезлюдели, оскудели, в немалой нужде сидит Неждан Иванович. Каждый мужик на золотом счету. Пошлет боярин своих смердов в осиротевшие вотчины и посадит на тягло. Конечно, на первых порах слабину даст, а затем поставит мужиков на полный оброк. Но такая жизнь мужикам не шибко-то и по нраву. Боярин хоть и не прижимист, но своего не упустит. Его двор обширен, всяких хозяйственных служб не перечесть, и все надо заполнить: хлебом, мясом, рыбой, медом, льном… Много всякого припасу надо: на то он и боярин, чтобы не бедствовать… Мужики же, по всему, надумали здесь остаться, на воле, без боярской кабалы. Места дальние, глухие, никто бы и не изведал. Обрастут более просторными избами, срубят часовенку, где можно Богу помолиться, раскорчуют леса, вспашут новины оралами, засеют их житом – и живи-поживай…
А как же Петруха Бортник? После Третьего Спаса явятся к нему за медом княжьи люди, увидят деревеньку – и пропадай вольная община. Правда, бывший князь и не ведал, где бортничает на него Петруха. Знали о нем лишь четверо гридней, кои раз в год наведывались к Бортнику. (За Петрухой так и закрепилась эта кличка.) Гридни Василька Константиновича. Да они, почитай, все полегли на берегах Сити, едва ли кто из четверых остался в живых. В Ростов вернулась горстка дружинников, но все они из послужильцев боярина Корзуна, так что о заимке Петрухи никто не ведает. А уж новый князь Святослав Всеволодович тем более ничего не знает. Значит, дело за ним, Лазуткой.
Скитник поднялся с валежины, глянул в напряженные лица сосельников и молвил:
– Я вам никогда недругом не был. Возьму грех на себя. Ни боярину, ни князю о вас не поведаю. Коль надумали здесь лихую годину пережить, оставайтесь.
Мужики и бабы (вот уж русский обычай по любому поводу бухаться в ноги) повалились на колени.
– Премного благодарны тебе, староста!
– Николи не забудем милость твою, Лазута Егорыч!
– Может, и сам с нами останешься? Завсегда рады такому старосте.
– Неисповедимы пути Господни, мужики, – загадочно отозвался Лазутка и сел на коня.
* * *
Скитник прожил с семьей три дня (успел и с Петрухой наговориться), а на четвертый – пошел седлать коня.
– Лазутка! Любый ты мой!
Счастливо заплакала, зацеловала, заголубила, и лишь спустя некоторое время, когда на руках супруга оказались все трое ребятишек, обо всем поведала, добавив в конце:
– Ты уж не серчай на меня. К отцу и матери я припоздала. А мужиков и баб с ребятенками пожалела, ослушалась тебя и с собой взяла.
– Да кто ж тебя винит, любушка? Молодец, что взяла. А бортник где?
– С мужиками ушел лес корчевать. Мужики-то надумали пашню орать, кое-кто с житом приехал.
– Далече ли?
– Версты за две. Там не густой перелесок. За неделю управятся.
Мужики встретили своего бывшего старосту и с удивлением, и… с напряженным ожиданием. Чего-то скажет человек боярина Корзуна? Да и другое волновало: чем закончилась сеча с погаными?
Лазутка повел разговор с последнего:
– Вести мои будут неутешительны, мужики. Почитай, вся рать на Сити погибла. Сложил голову и наш князь Василько Константинович и брат его Всеволод Ярославский. В живых остался лишь Владимир Углицкий.
Мужики понурились.
– Никак крепки татары? – мрачно вопросил пожилой коренастый мужик Силуян с рыжеватой бородой.
– Не столь крепки, сколь многочисленны. Каждый наш воин бился с десятком ордынцев. Будь у нас новгородская и киевская дружины, не быть бы со щитом татарам. Бросили нас эти князья, да и не токмо они, вот и пришлось биться из последних сил.
– А что великий князь?
– На Юрии Всеволодовиче самая большая вина. Он все дружины по деревенькам распустил и сторожевой полк неудачно поставил. Ордынцы к сторожевым подкрались и всех перебили, а когда на стан великого князя напали, он токмо тогда начал дружины расставлять, но поставить полки так и не успел. Основной удар приняло на себя войско Василька Константиновича с его братьями. Князю Юрию Всеволодовичу ордынцы саблей голову отсекли. Взяли нас татары в кольцо, но кое-кому удалось прорубиться, и мне с боярином Корзуном.
– Выходит, живехонек остался наш боярин? – подал голос все тот же мужик Силуян. И непонятно было: то ли радуется оратай, то ли он огорчен.
– Был поранен, но остался жив.
– Да и у тебя на щеке отметина, – изронил один из мужиков.
– Ордынец сабелькой прогулялся. Слава Богу, вскользь.
– А что слыхать о наших Угожах? – с робкой надеждой спросил другой мужик, худосочный, с острыми, бегающими глазами.
Лазутка вздохнул.
– Нет ныне, Вахоня, ни Белогостиц, ни Угожей, ни других поселений.
Мужиков эта новость омрачила больше других. Бабы заревели, а мужики еще больше насупились: нет тяжелее известия о гибели родного очага.
Лазутка, увидев вместо своего дома черное попелище, долго не мог прийти в себя. Жалость и злость заполонили его душу. Когда думал о свирепых ордынцах, скрипел зубами. Отомстить, отомстить извергам!
Поехал к боярину Неждану Корзуну и зло бросил:
– Ты вот меня к семье отпустил, а я как увидел свой спаленный двор, так нет у меня иной думы – вновь с погаными схватиться. Поеду татар сечь, они ныне по всем уделам рыскают.
– Глупо, Лазутка. Один в поле не воин. Ну, как богатырь, срубишь несколько голов и сам ляжешь. Велик ли прок?
– Так как же быть, Неждан Иваныч, как быть? – сжимая рукоять меча, горячо спросил Лазутка.
– Как? Нам теперь одно остается – выжидать и копить силы, а уж потом вдарить. Терпи!
Прав боярин: на одном полозу далеко не уедешь. И впрямь надо терпеть. Настанет и для татар гибельный час.
С теми чувствами и поехал к лесной избушке бортника…
Удрученные сосельники мяли в натруженных руках войлочные колпаки, тяжко вздыхали и все почему-то поглядывали на Силуяна.
«Знать, большаком выбрали», – невольно подумалось Лазутке.
Так и есть: Силуян кинул на старосту цепкий, схватчивый взгляд и напрямик вопросил:
– Никак, к боярину нас сведешь? Аль, может, самому князю донесешь?
Лазутка отозвался не вдруг, замешкался. Не простой вопрос подкинул Силуян.
– А что-то Авдеича среди вас не вижу.
– Был с утра, а затем в лес убежал борть искать. У него своих дел хватает, – пояснил Вахоня.
– Так-так, – неопределенно протянул Скитник и уселся на выкорчеванное дерево. Думал, скребя черную, кудреватую бороду. Если уж быть честным, то надо непременно боярину о мужиках доложить. Вотчины его обезлюдели, оскудели, в немалой нужде сидит Неждан Иванович. Каждый мужик на золотом счету. Пошлет боярин своих смердов в осиротевшие вотчины и посадит на тягло. Конечно, на первых порах слабину даст, а затем поставит мужиков на полный оброк. Но такая жизнь мужикам не шибко-то и по нраву. Боярин хоть и не прижимист, но своего не упустит. Его двор обширен, всяких хозяйственных служб не перечесть, и все надо заполнить: хлебом, мясом, рыбой, медом, льном… Много всякого припасу надо: на то он и боярин, чтобы не бедствовать… Мужики же, по всему, надумали здесь остаться, на воле, без боярской кабалы. Места дальние, глухие, никто бы и не изведал. Обрастут более просторными избами, срубят часовенку, где можно Богу помолиться, раскорчуют леса, вспашут новины оралами, засеют их житом – и живи-поживай…
А как же Петруха Бортник? После Третьего Спаса явятся к нему за медом княжьи люди, увидят деревеньку – и пропадай вольная община. Правда, бывший князь и не ведал, где бортничает на него Петруха. Знали о нем лишь четверо гридней, кои раз в год наведывались к Бортнику. (За Петрухой так и закрепилась эта кличка.) Гридни Василька Константиновича. Да они, почитай, все полегли на берегах Сити, едва ли кто из четверых остался в живых. В Ростов вернулась горстка дружинников, но все они из послужильцев боярина Корзуна, так что о заимке Петрухи никто не ведает. А уж новый князь Святослав Всеволодович тем более ничего не знает. Значит, дело за ним, Лазуткой.
Скитник поднялся с валежины, глянул в напряженные лица сосельников и молвил:
– Я вам никогда недругом не был. Возьму грех на себя. Ни боярину, ни князю о вас не поведаю. Коль надумали здесь лихую годину пережить, оставайтесь.
Мужики и бабы (вот уж русский обычай по любому поводу бухаться в ноги) повалились на колени.
– Премного благодарны тебе, староста!
– Николи не забудем милость твою, Лазута Егорыч!
– Может, и сам с нами останешься? Завсегда рады такому старосте.
– Неисповедимы пути Господни, мужики, – загадочно отозвался Лазутка и сел на коня.
* * *
Скитник прожил с семьей три дня (успел и с Петрухой наговориться), а на четвертый – пошел седлать коня.