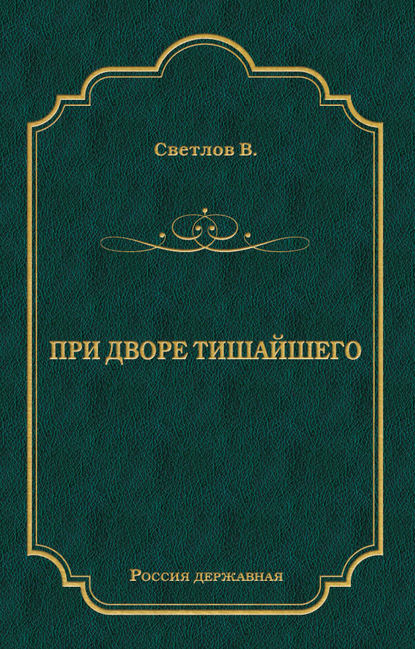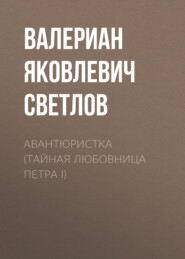По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
При дворе Тишайшего
Серия
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В это время дверь отворилась, и вошел Пронский, за ним шла с подносом в руках и опухшими от слез глазами девушка в розовом атласном сарафане и с повязкой на голове.
– Подыми глаза-то, небось не съедят! – грубо крикнул ей отец.
Девушка с робким укором подняла на отца большие лучистые глаза, придававшие ее худенькому, далеко не красивому лицу какую-то особую прелесть и мягкость, и застыла с немым недоумением на лице.
– Подай князю чарку! – приказал Пронский.
Ольга неслышными шагами подошла к Черкасскому, остановилась перед ним, но не поклонилась ему.
– А поклон за дверями оставила, что ли?
Девушка послушно наклонила голову, подалась немного вперед своим тонким, полудетским станом и протянула гостю поднос, на котором стояла чарка, до краев наполненная вином.
– Тонка она у тебя больно! – беря чарку, шепнул Черкасский князю Борису, усевшемуся рядом с ним.
Тот нахмурился, оглядел дочь недружелюбным взглядом и возразил:
– Товар лицом показываю, а там твоя воля; женихов не искать стать.
Княгиня Анастасия с робкой надеждой во взоре посмотрела на гостя. Ольга стояла точно истукан, молча, низко потупив взор.
– Да я ничего, я так, к слову, – поторопился ответить Черкасский и бесцеремонно стал разглядывать девушку.
Взор княгини потух, и она в отчаянии поникла головой.
– И не очень, чтобы того, с лица казиста! – пробормотал Черкасский.
– Да ты что, княже? – обернулся к нему Пронский. – На Конной площади, что ли? Коли не по нраву, не по мысли тебе…
– Что ты, что ты! – заговорил Григорий Сенкулеевич. – Я это к слову… потому вот сейчас княгиня твоя сказывала, будто я-де не жених твоей дочери, стар, мол, и безобразен! – рассмеялся он гаденьким смешком. – А по мне, и невеста-то не многим лучше жениха, разве что годами только не сойдемся… Вот я к чему.
– Не ее бабьего ума это дело! – мрачно смерил жену глазами Пронский. – Ступай! – приказал он ей. – И ты! – обратился он к дочери.
Анастасия Петровна и Ольга, безмолвно покорившись приказанию, низко откланялись ему и гостю.
– Ты жди меня, – сказал князь жене, когда она была уже в дверях. – Я скоро зайду: потолковать надо.
Женщины ушли. Пронский обратился к своему гостю:
– Князь, я сам тебе в жены свою дочь предложил, ты сватов ко мне не засылал; я сам ее сватом был; ты мое сватовство принял, дочь не видавши; молода она, и приданое за ней немалое ты выговорил; я думал – и разговору конец, ан ты еще и красоты захотел, и дородности искать стал… Негоже это, князь!
– Послушай, князь Борис Алексеевич, – остановил было друга Черкасский, но Пронский резко перебил его:
– Постой, князь! Раскинь умом да поразмысли толком, много ли девиц с красотой да именитостью за тебя, князя Григория Сенкулеевича Черкасского, родители отдадут?
– Князь, ты обидеть меня измыслил? – начиная сердиться, спросил Черкасский.
– Нисколько! Но задел ты меня, князь!
– Да и я не хотел изобидеть тебя, – в примирительном тоне заговорил Черкасский, – с княгини твоей спесь маленечко захотелось сбить: очень уж она чванится дочкой-то своей! А по мне, девица ничего; люблю ведь я молоденьких, ведомо это тебе? – осклабившись, спросил он.
– Ведомо, а потому и затеял я это сватовство, чтобы отказа не было.
– Горденек ты, боярин!
– А ты не горд? Спеси-то боярской не отбавлять и у тебя стать.
Примирившись, князья потребовали вина и начали обсуждать, когда назначить день свадьбы.
– Чем скорее, тем лучше! – предложил Черкасский.
– Раньше Красной горки никак не управиться; до поста немного уж осталось, – задумчиво проговорил Пронский.
– А какие такие приготовленья? К попу съездить да обвенчаться, вот и вся недолга.
– Надо все честь честью, – ответил Пронский, – я хочу всю Москву удивить, самого царя-батюшку позвать, иноземцев…
– А я так разумею, – выпивая разом вино и не глядя на Пронского, сказал жених, – что княгиня твоя этому браку воспротивствует и помехой будет.
Пронский закусил от досады губы.
– Не бабьего ума это дело! – мрачно подтвердил он.
– Теперь ее нелегко скрутить! – вполголоса проговорил Черкасский, пожевав губами. – Федор-то Михайлович Ртищев вон в какую силу идет. Не даст небось родственницу-то в обиду.
– Я – муж ее и власть имею с дочерью соделать все, что только похочу, – гордо проговорил Пронский.
– Ну, против царя все равно ничего не поделаешь, – скептически заметил Черкасский, – а Алексей Михайлович, известно, слаб: кто у него испросит какой милости, он, по доброте сердечной, отказать не сможет. А Ртищев подластиться сумеет!.. Ведь вот молод, на десять лет младше меня, – с трудно скрываемой горечью произнес князь, – а куда шагнул? Ниже меня родом, а царь его своим приближенным сделал… А почему? Умеет ластиться, с иноземщиной дружит и даже, – шепотом проговорил он, нагнувшись к Пронскому, – с волшебством знается!
– Ну, мне он не страшен и с волшебством своим! – довольно равнодушно ответил Пронский, вспоминая, что у него против Ртищева есть у царя отличный козырь – боярыня Хитрово, с которой он никого и ничего не боялся.
Долго еще бражничали и беседовали князья, а бедная княгиня Пронская сидела у себя в светелке и внимательно с трудом разбирала Евангелие на древнеславянском языке. Время от времени она поднимала голову и чутко прислушивалась, не раздадутся ли знакомые ей твердые шаги мужа. Но наступала уже ночь, а он все еще не шел. Княжна давно, выплакав все слезы на груди у матери, легла спать и, разметавшись под кисейным пологом, вздрагивала во сне и пугливо вскрикивала. А княгиня, стоя у ее изголовья, творила молитвы.
XVI
Любовники-враги
Боярыня Хитрово только что вошла в свою комнату и, отдав шубку сенной девушке, села словно разбитая на лавку, которую она, по восточному обычаю, покрыла коврами. Она оперлась локтями на стол, положила голову на руки и осталась в такой позе, глубоко задумавшись.
Яркое весеннее солнце целым снопом золотых лучей врывалось через оконные стекла в комнату и придавало ей веселый, праздничный вид. Но боярыня не видела сегодня этого прекрасного утра, не любовалась первыми по-настоящему весенними лучами. На ее высоком лбу обозначилась глубокая морщина; углы рта как-то опустились, глаза тревожно смотрели куда-то вдаль, и все лицо точно поблекло, словно огонек, освещавший его изнутри, погас.
– Это страшно! – шептали ее побледневшие губы. – Лучше убить сразу!.. – Она внезапно остановилась и пугливо оглянулась. – Никого! – проговорила она и провела рукой по глазам.
Елена Дмитриевна только что навестила несчастную польскую княжну, после того как няня много раз напоминала ей об этом.
Княжну она нашла в ужасном положении, еще в худшем, чем она была за несколько месяцев до этого. Несчастная, видимо, таяла и молила своего мучителя, чтобы он дал ей умереть спокойно на солнце, дыша весенним воздухом. Но Пронскому нужна была ее смерть. Он боялся, что она оживет и выдаст его, и тогда весь его план, так искусно задуманный, с появлением этой претендентки на его имя погибнет. Убить ее он еще медлил, да и не хотел идти на убийство, но мучить ее он считал себя вправе, раз она упорствовала и мешала ему. Он не привык стесняться с теми, кто становился ему поперек дороги.
Ванда все рассказала боярыне Хитрово и умоляла ее дать ей возможность уйти из подземелья.
– Подыми глаза-то, небось не съедят! – грубо крикнул ей отец.
Девушка с робким укором подняла на отца большие лучистые глаза, придававшие ее худенькому, далеко не красивому лицу какую-то особую прелесть и мягкость, и застыла с немым недоумением на лице.
– Подай князю чарку! – приказал Пронский.
Ольга неслышными шагами подошла к Черкасскому, остановилась перед ним, но не поклонилась ему.
– А поклон за дверями оставила, что ли?
Девушка послушно наклонила голову, подалась немного вперед своим тонким, полудетским станом и протянула гостю поднос, на котором стояла чарка, до краев наполненная вином.
– Тонка она у тебя больно! – беря чарку, шепнул Черкасский князю Борису, усевшемуся рядом с ним.
Тот нахмурился, оглядел дочь недружелюбным взглядом и возразил:
– Товар лицом показываю, а там твоя воля; женихов не искать стать.
Княгиня Анастасия с робкой надеждой во взоре посмотрела на гостя. Ольга стояла точно истукан, молча, низко потупив взор.
– Да я ничего, я так, к слову, – поторопился ответить Черкасский и бесцеремонно стал разглядывать девушку.
Взор княгини потух, и она в отчаянии поникла головой.
– И не очень, чтобы того, с лица казиста! – пробормотал Черкасский.
– Да ты что, княже? – обернулся к нему Пронский. – На Конной площади, что ли? Коли не по нраву, не по мысли тебе…
– Что ты, что ты! – заговорил Григорий Сенкулеевич. – Я это к слову… потому вот сейчас княгиня твоя сказывала, будто я-де не жених твоей дочери, стар, мол, и безобразен! – рассмеялся он гаденьким смешком. – А по мне, и невеста-то не многим лучше жениха, разве что годами только не сойдемся… Вот я к чему.
– Не ее бабьего ума это дело! – мрачно смерил жену глазами Пронский. – Ступай! – приказал он ей. – И ты! – обратился он к дочери.
Анастасия Петровна и Ольга, безмолвно покорившись приказанию, низко откланялись ему и гостю.
– Ты жди меня, – сказал князь жене, когда она была уже в дверях. – Я скоро зайду: потолковать надо.
Женщины ушли. Пронский обратился к своему гостю:
– Князь, я сам тебе в жены свою дочь предложил, ты сватов ко мне не засылал; я сам ее сватом был; ты мое сватовство принял, дочь не видавши; молода она, и приданое за ней немалое ты выговорил; я думал – и разговору конец, ан ты еще и красоты захотел, и дородности искать стал… Негоже это, князь!
– Послушай, князь Борис Алексеевич, – остановил было друга Черкасский, но Пронский резко перебил его:
– Постой, князь! Раскинь умом да поразмысли толком, много ли девиц с красотой да именитостью за тебя, князя Григория Сенкулеевича Черкасского, родители отдадут?
– Князь, ты обидеть меня измыслил? – начиная сердиться, спросил Черкасский.
– Нисколько! Но задел ты меня, князь!
– Да и я не хотел изобидеть тебя, – в примирительном тоне заговорил Черкасский, – с княгини твоей спесь маленечко захотелось сбить: очень уж она чванится дочкой-то своей! А по мне, девица ничего; люблю ведь я молоденьких, ведомо это тебе? – осклабившись, спросил он.
– Ведомо, а потому и затеял я это сватовство, чтобы отказа не было.
– Горденек ты, боярин!
– А ты не горд? Спеси-то боярской не отбавлять и у тебя стать.
Примирившись, князья потребовали вина и начали обсуждать, когда назначить день свадьбы.
– Чем скорее, тем лучше! – предложил Черкасский.
– Раньше Красной горки никак не управиться; до поста немного уж осталось, – задумчиво проговорил Пронский.
– А какие такие приготовленья? К попу съездить да обвенчаться, вот и вся недолга.
– Надо все честь честью, – ответил Пронский, – я хочу всю Москву удивить, самого царя-батюшку позвать, иноземцев…
– А я так разумею, – выпивая разом вино и не глядя на Пронского, сказал жених, – что княгиня твоя этому браку воспротивствует и помехой будет.
Пронский закусил от досады губы.
– Не бабьего ума это дело! – мрачно подтвердил он.
– Теперь ее нелегко скрутить! – вполголоса проговорил Черкасский, пожевав губами. – Федор-то Михайлович Ртищев вон в какую силу идет. Не даст небось родственницу-то в обиду.
– Я – муж ее и власть имею с дочерью соделать все, что только похочу, – гордо проговорил Пронский.
– Ну, против царя все равно ничего не поделаешь, – скептически заметил Черкасский, – а Алексей Михайлович, известно, слаб: кто у него испросит какой милости, он, по доброте сердечной, отказать не сможет. А Ртищев подластиться сумеет!.. Ведь вот молод, на десять лет младше меня, – с трудно скрываемой горечью произнес князь, – а куда шагнул? Ниже меня родом, а царь его своим приближенным сделал… А почему? Умеет ластиться, с иноземщиной дружит и даже, – шепотом проговорил он, нагнувшись к Пронскому, – с волшебством знается!
– Ну, мне он не страшен и с волшебством своим! – довольно равнодушно ответил Пронский, вспоминая, что у него против Ртищева есть у царя отличный козырь – боярыня Хитрово, с которой он никого и ничего не боялся.
Долго еще бражничали и беседовали князья, а бедная княгиня Пронская сидела у себя в светелке и внимательно с трудом разбирала Евангелие на древнеславянском языке. Время от времени она поднимала голову и чутко прислушивалась, не раздадутся ли знакомые ей твердые шаги мужа. Но наступала уже ночь, а он все еще не шел. Княжна давно, выплакав все слезы на груди у матери, легла спать и, разметавшись под кисейным пологом, вздрагивала во сне и пугливо вскрикивала. А княгиня, стоя у ее изголовья, творила молитвы.
XVI
Любовники-враги
Боярыня Хитрово только что вошла в свою комнату и, отдав шубку сенной девушке, села словно разбитая на лавку, которую она, по восточному обычаю, покрыла коврами. Она оперлась локтями на стол, положила голову на руки и осталась в такой позе, глубоко задумавшись.
Яркое весеннее солнце целым снопом золотых лучей врывалось через оконные стекла в комнату и придавало ей веселый, праздничный вид. Но боярыня не видела сегодня этого прекрасного утра, не любовалась первыми по-настоящему весенними лучами. На ее высоком лбу обозначилась глубокая морщина; углы рта как-то опустились, глаза тревожно смотрели куда-то вдаль, и все лицо точно поблекло, словно огонек, освещавший его изнутри, погас.
– Это страшно! – шептали ее побледневшие губы. – Лучше убить сразу!.. – Она внезапно остановилась и пугливо оглянулась. – Никого! – проговорила она и провела рукой по глазам.
Елена Дмитриевна только что навестила несчастную польскую княжну, после того как няня много раз напоминала ей об этом.
Княжну она нашла в ужасном положении, еще в худшем, чем она была за несколько месяцев до этого. Несчастная, видимо, таяла и молила своего мучителя, чтобы он дал ей умереть спокойно на солнце, дыша весенним воздухом. Но Пронскому нужна была ее смерть. Он боялся, что она оживет и выдаст его, и тогда весь его план, так искусно задуманный, с появлением этой претендентки на его имя погибнет. Убить ее он еще медлил, да и не хотел идти на убийство, но мучить ее он считал себя вправе, раз она упорствовала и мешала ему. Он не привык стесняться с теми, кто становился ему поперек дороги.
Ванда все рассказала боярыне Хитрово и умоляла ее дать ей возможность уйти из подземелья.