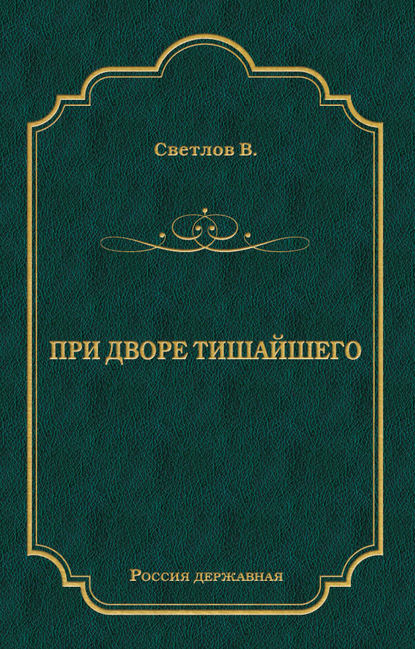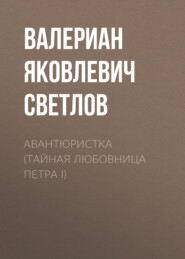По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
При дворе Тишайшего
Серия
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Видно, прогневил я Бога.
– Ну, да ладно, будет уж причитать, сказывай знай! Или забыл, что князиньку я часом веселю, а часом и душой смущаю? Сегодня за обедом он смеется, зубы скалит, а я ему шасть на всю комнату: «Марья, мол, глазастая, удавилась». Он побелел весь да как зарычит на меня!..
– А вправду Марья удавилась? – спросил Ефрем.
– Вправду. Утром по обедне! Взяла веревку и на крюке печном и удавилась. Дура-баба, известно! Онамеднись боярин-князинька ее, хамку, к себе в угловую звал… а сегодня она удавилась. Известно, хамка.
– Что ж, Васька, – глухо спросил старик, – по-твоему, у хамки и души нет?
– Известно – пар! – презрительно ответил Васька.
– А ты сам-то – не хамово отродье?
– Я-то? – гордо закинув лысую голову, проговорил Васька. – Я-то не весь хам; почитай, и во мне боярская кровь течет, да еще какая: ромодановская-стародубская!
Ефрем невольно улыбнулся этому смешному самозванству; он часто слышал, что Васька считал себя побочным сыном боярина Ромодановского, но плохо верил этому, потому что уж очень безобразен был отпрыск Ромодановских.
– Ты не смотри, что у меня глаз кривой да плешь во всю Красную площадь, – обидчиво заметил Васька, – в молодости девки на меня во как заглядывались!.. Ну а как же ты-то? Не скажешь, какая кручина?
– Да что ты словно банный лист к мокрому месту пристал? Ну, князь Аришку в угловую зовет повечеру, – хриплым, надорванным шепотом докончил Ефрем.
Васька так и остался с открытым ртом и только моргал своим единым глазом.
– Арину Федосеевну… зовет? – наконец прошептал он. – Почему же ее? Или… люба?
– Давно зубы точит, да, вишь, мою старость жалел, ирод! – криво усмехнулся Ефрем.
– Провинился ты чем-либо?
– Провинился, провинился тем, что чуточку душу живую пожалел. Слушай, Васька! – вдруг освирепев, обратился старик к Кривому. – Заодно погибать! Хоть и ты и я пособники были его богомерзким деяниям, зато, видно, и наказует меня Бог, да не хочу я, чтобы, меня погубя, он безвинную душу сгубил… До сей поры, кроме него да меня, раба смрадного, никто не знал, что в подземелье у него томится княжна польская! Больше года, сердечная, томится! Очень, бедная, мучается. И вот за то, что я многое открыл ей, он казнит меня казнью лютою: Аринушку мою, голубку чистую, погубить хочет, злодей. Крепился лютый до сей поры заслуги моей ради… а теперь… теперь, – голос старика оборвался, и он рукавом от кафтана вытер свои слезы.
– Мало ему девок свободных по Москве гуляет? – злобно спросил Васька.
– Чистую, знать, захотел.
– Арина Федосеевна не пойдет на то волею.
– Силком поволокут; нешто спрашивать станут?
Старик поник головой, а Васька задумчиво устремил свой кривой глаз на оконце.
Зимние сумерки уже давно окутали землю; на улицах трудно было различать друг друга, и все торопились скорее скрыться в дома, где уже зажигали огни и было тепло.
В доме князя Пронского было темно, как в могиле. Домочадцы разбрелись по своим комнатам, кто спал после обеда и до ужина, кто тихо, вполголоса, беседовал с кем-нибудь, а кто сидел пригорюнившись…
Дворня, зная, что боярин ходит мрачнее тучи, приуныла, и уже не слышно было разудалых песен.
Младший ключник Егорка, рослый парень, искал Ефрема, но, узнав от его внучки Ариши, что тот у себя в светелке молится Богу, побоялся нарушить покой старика. Все в доме знали, что, когда дедушка Ефрем молится у себя в светелке, его нельзя тревожить и что верно приключилось в доме что-нибудь особенное, злое и жестокое.
– А знаешь, дед, что я придумал? – нарушил наконец молчание Васька, обращаясь к Ефрему.
– Что? – безучастно спросил Ефрем.
– Поезжай-ка ты к боярыне Хитрово. Знаешь, чай? Да скажи ей про все про это – про Арину Федосеевну и все прочее…
Ефрем усмехнулся:
– Думаешь, она его проделок не знает? Все знает и все покрывает.
– И про полячку знает?
– А кто ж их разберет? Должно быть, знает.
– Я так смекаю – не знает она. Потому, это – не девка-холопка, эта княжеского рода сама будет, значит, супротивница, а боярыня ревнива и себялюбива; гордости ее к холопкам не будет, а к княжне заговорит. И это князинька беспременно смекнул и про княжну польскую ни словечка не молвил.
– А ежели молвил?
– Ну, что ж? Двум смертям не бывать, одной не миновать. Если он молвил, не сносить тебе своей седой головы, а если нет…
– Все едино. Княжну, может, этим спасу, а Аринушку…
– Кто знает, може, этим случаем и Арину Федосеевну вызволишь.
– Ни в жисть! Когда еще боярыня Хитрово узнает да когда княжну увидит, а тем временем Аринушка моя сгинет, вовсе сгинет.
– А и что ж за беда? – равнодушно заметил Васька. – Полюбовницей боярина сделается: тебе хорошо будет, да и ей, да и всем хорошо жить.
– То-то Марье хорошо жилось.
– Так ведь та дура, не сумела его под свою власть взять. Это уж их, бабье, дело.
– Взяла его боярыня, скажешь?
– А что ж, он ее здорово боится!
– Потому и боится, что она – сила при царе, а то бы он показал ей, как над ним силу брать. Нет уж, где моей Арине властвовать: целой бы уйти, и то хорошо!
– А уйдет! – вдруг радостно крикнул Васька.
– Как это? – не понял Ефрем. – В бегуны пойти? Ой, жизнь-то в бегунах тяжкая…
– Зачем в бегуны? Мы честью! Да ты, дедушка, не сумлевайся… коли Васька Кривой сказал, что Арина Федосеевна рук боярских минует, так и сбудется!
Ефрем подозрительно оглянул княжеского шута. Не привык он слышать от него такие речи.
– Ты что, парень, больно добр стал? – спросил он его.
Васька вспыхнул до корней волос, но старик за темнотой не заметил этого и продолжал:
– Ну, да ладно, будет уж причитать, сказывай знай! Или забыл, что князиньку я часом веселю, а часом и душой смущаю? Сегодня за обедом он смеется, зубы скалит, а я ему шасть на всю комнату: «Марья, мол, глазастая, удавилась». Он побелел весь да как зарычит на меня!..
– А вправду Марья удавилась? – спросил Ефрем.
– Вправду. Утром по обедне! Взяла веревку и на крюке печном и удавилась. Дура-баба, известно! Онамеднись боярин-князинька ее, хамку, к себе в угловую звал… а сегодня она удавилась. Известно, хамка.
– Что ж, Васька, – глухо спросил старик, – по-твоему, у хамки и души нет?
– Известно – пар! – презрительно ответил Васька.
– А ты сам-то – не хамово отродье?
– Я-то? – гордо закинув лысую голову, проговорил Васька. – Я-то не весь хам; почитай, и во мне боярская кровь течет, да еще какая: ромодановская-стародубская!
Ефрем невольно улыбнулся этому смешному самозванству; он часто слышал, что Васька считал себя побочным сыном боярина Ромодановского, но плохо верил этому, потому что уж очень безобразен был отпрыск Ромодановских.
– Ты не смотри, что у меня глаз кривой да плешь во всю Красную площадь, – обидчиво заметил Васька, – в молодости девки на меня во как заглядывались!.. Ну а как же ты-то? Не скажешь, какая кручина?
– Да что ты словно банный лист к мокрому месту пристал? Ну, князь Аришку в угловую зовет повечеру, – хриплым, надорванным шепотом докончил Ефрем.
Васька так и остался с открытым ртом и только моргал своим единым глазом.
– Арину Федосеевну… зовет? – наконец прошептал он. – Почему же ее? Или… люба?
– Давно зубы точит, да, вишь, мою старость жалел, ирод! – криво усмехнулся Ефрем.
– Провинился ты чем-либо?
– Провинился, провинился тем, что чуточку душу живую пожалел. Слушай, Васька! – вдруг освирепев, обратился старик к Кривому. – Заодно погибать! Хоть и ты и я пособники были его богомерзким деяниям, зато, видно, и наказует меня Бог, да не хочу я, чтобы, меня погубя, он безвинную душу сгубил… До сей поры, кроме него да меня, раба смрадного, никто не знал, что в подземелье у него томится княжна польская! Больше года, сердечная, томится! Очень, бедная, мучается. И вот за то, что я многое открыл ей, он казнит меня казнью лютою: Аринушку мою, голубку чистую, погубить хочет, злодей. Крепился лютый до сей поры заслуги моей ради… а теперь… теперь, – голос старика оборвался, и он рукавом от кафтана вытер свои слезы.
– Мало ему девок свободных по Москве гуляет? – злобно спросил Васька.
– Чистую, знать, захотел.
– Арина Федосеевна не пойдет на то волею.
– Силком поволокут; нешто спрашивать станут?
Старик поник головой, а Васька задумчиво устремил свой кривой глаз на оконце.
Зимние сумерки уже давно окутали землю; на улицах трудно было различать друг друга, и все торопились скорее скрыться в дома, где уже зажигали огни и было тепло.
В доме князя Пронского было темно, как в могиле. Домочадцы разбрелись по своим комнатам, кто спал после обеда и до ужина, кто тихо, вполголоса, беседовал с кем-нибудь, а кто сидел пригорюнившись…
Дворня, зная, что боярин ходит мрачнее тучи, приуныла, и уже не слышно было разудалых песен.
Младший ключник Егорка, рослый парень, искал Ефрема, но, узнав от его внучки Ариши, что тот у себя в светелке молится Богу, побоялся нарушить покой старика. Все в доме знали, что, когда дедушка Ефрем молится у себя в светелке, его нельзя тревожить и что верно приключилось в доме что-нибудь особенное, злое и жестокое.
– А знаешь, дед, что я придумал? – нарушил наконец молчание Васька, обращаясь к Ефрему.
– Что? – безучастно спросил Ефрем.
– Поезжай-ка ты к боярыне Хитрово. Знаешь, чай? Да скажи ей про все про это – про Арину Федосеевну и все прочее…
Ефрем усмехнулся:
– Думаешь, она его проделок не знает? Все знает и все покрывает.
– И про полячку знает?
– А кто ж их разберет? Должно быть, знает.
– Я так смекаю – не знает она. Потому, это – не девка-холопка, эта княжеского рода сама будет, значит, супротивница, а боярыня ревнива и себялюбива; гордости ее к холопкам не будет, а к княжне заговорит. И это князинька беспременно смекнул и про княжну польскую ни словечка не молвил.
– А ежели молвил?
– Ну, что ж? Двум смертям не бывать, одной не миновать. Если он молвил, не сносить тебе своей седой головы, а если нет…
– Все едино. Княжну, может, этим спасу, а Аринушку…
– Кто знает, може, этим случаем и Арину Федосеевну вызволишь.
– Ни в жисть! Когда еще боярыня Хитрово узнает да когда княжну увидит, а тем временем Аринушка моя сгинет, вовсе сгинет.
– А и что ж за беда? – равнодушно заметил Васька. – Полюбовницей боярина сделается: тебе хорошо будет, да и ей, да и всем хорошо жить.
– То-то Марье хорошо жилось.
– Так ведь та дура, не сумела его под свою власть взять. Это уж их, бабье, дело.
– Взяла его боярыня, скажешь?
– А что ж, он ее здорово боится!
– Потому и боится, что она – сила при царе, а то бы он показал ей, как над ним силу брать. Нет уж, где моей Арине властвовать: целой бы уйти, и то хорошо!
– А уйдет! – вдруг радостно крикнул Васька.
– Как это? – не понял Ефрем. – В бегуны пойти? Ой, жизнь-то в бегунах тяжкая…
– Зачем в бегуны? Мы честью! Да ты, дедушка, не сумлевайся… коли Васька Кривой сказал, что Арина Федосеевна рук боярских минует, так и сбудется!
Ефрем подозрительно оглянул княжеского шута. Не привык он слышать от него такие речи.
– Ты что, парень, больно добр стал? – спросил он его.
Васька вспыхнул до корней волос, но старик за темнотой не заметил этого и продолжал: