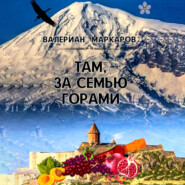По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Портрет неизвестной, или Во всем виноват Репин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут она вскочила и, бросившись в сторону, легким движением смахнула пылинку с одного из настенных светильников, освещавших коридор.
Глава2
Небольшого роста сухощавый человек, чей возраст выдавала разве что седина, с острой бородкой и волосами довольно длинными, слегка вьющимися, быстрой походкой пересекал татарский Мейдан. Был полдень, солнце застыло в зените, и от жары и духоты не спасала даже тень платанов, раскинувших свои могучие кроны. Блуждающий взгляд нашего героя ловил разгоряченные и лукавые глаза купцов и торговцев, в подвижной выразительности следивших за своим товаром и жадно выискивавших новых «муштари» на этой небольшой площади, сжатой со всех сторон кривыми и косыми «карточными» домиками. Не жалея ни своего горла, ни чужого слуха, продавцы стучали железными весами, звенели привешенными к потолку лавки колокольчиками, зазывая покупателей пронзительными криками: «ай яблук, ай виноград, ай персик», или: «дошов отдам, пожалуй барин», «ай книаз-джан, здесь хороши тавар!».
Жизнь тут начиналась задолго до рассвета, шумно кипела и была наполнена запахами плова и чурека, стуками молотков, звуками дудуки и зурны, песнями бродячих музыкантов, жалобными хрипами шарманок, перебранками торговцев с покупателями, свистками городовых, криками разносчиков, воплями извозчиков скрипучих фаэтонов, танцами кинто и болтовней зевак, что толкались на перекрестках. На пути среди пестрого изобилия встречались нашему герою и персы в аршинных остроконечных папахах, постукивающие коваными каблуками, и лезгины в мохнатых бурках, невзирая на жару, и курды, и татары, и турки в разноцветных чалмах, подпоясанные шерстяными платками: они продают свои пряности, заморские специи и фрукты из Азии. Здесь бродят горцы в чохе с закинутыми на плечи рукавами, в шелковом архалухе, обшитом позументами, в широких шальварах, шумящих при каждом движении, в сапогах с загнутыми носками, держась одной рукой за большой в серебре кинжал и покручивая другой черные длинные усы. А посмотрите-ка на этого идеальной красоты интеллигентного кабардинца-князя с орлиным взором, на тысячном коне, с револьверами и дамасскими клинками шашки и кинжала!
А эти вечно траурные грузинки и армянки: черный цвет, как всегда, украшает их и без того красивые и очень выразительные лица. Никогда раньше не видел я столько писаных красавиц, как в Тифлисе: острая чернота глаза, картинный взмах бровей, это-то и поражает, думал он. Глазам не веришь. И какая статность! Какой рост! И мужчины есть – просто идеальных форм! В целом, эта нация очень щедро одарена природой по части изящества фигур. А посмотрите, как хорош этот черкес с черной бородкой, в круглой меховой шапке, подтянутый ремнем, за которым торчит пара красивых пистолетов, как легки все его движения, как все изобличает лихого наездника! Или этот букинист в ободранном солдатском мундире, приобретенном, верно, за несколько копеек на толкучке, с грудой книг, сложенных пирамидой и крепко перетянутой длинным ремнем. А тут навстречу понурый тулухчи, ведущий лошадь, навьюченную двумя огромными бурдюками, выделанными из шкуры быка или буйвола, в которых он развозит воду с берегов Куры. Повсюду снуют седые «муши» в мягких чувяках, согнувшиеся под грузом огромного шкафа или непомерной длины мешка с хлопчатой бумагой, так что, глядя сзади, кажется, будто шкаф движется сам собой: они готовы за ничтожную плату нести тяжести на своих «горбах» во все части Тифлиса, растянувшегося вдоль берегов Куры и затиснутого в щель между гор и зеленью цветущих садов вечного города Кавказа. И все это перемешано, все движется, толкается, шумит на разных наречиях, дрожки скачут взад и вперед, гремя по булыжной мостовой.
С громады Сололакского хребта глядят вниз развалины древней крепости Нарикала, а справа, на отвесной скале над мутной рекой, угрюмо возвышается Метехская крепость, окруженная какими-то постройками: она молчаливо пялится по сторонам своими окнами-бойницами и решётками. Это страшное место – царская тюрьма. Рядом с ней – как спичечный коробок – расположилась полосатая будка, в ней часовой – точно оловянный солдатик, стоит с винтовкой и штыком. Наш герой втянул голову в плечи – от мрачной крепости веяло холодом. Здесь, на воле, свет и свободный ветер. А там, в темноте, в душных и сырых застенках томятся арестанты: одних ждет суровое наказание, солдатчина или даже казнь, другие же в тяжёлых оковах и под конвоем будут отправлены в Сибирь. «Боже, будь милостив к узникам!» – попросил он и, оставив за собой мрачную возвышенность, под всхлипывающее пение муэдзина с минарета незабвенной лазурной мечети зашагал дальше, в сторону шумного Армянского базара.
Эта улица, узенькая настолько, что двум дрожкам едва разминуться, начиналась с самого Мейдана – сердца Тифлиса с полуторатысячелетней историей, – и шла вверх, заканчиваясь на Эриванской площади. Путь нашего героя пролегал мимо развалин, на которых всесокрушающее время нарисовало узоры глубоких трещин, и мимо домов новой архитектуры с прекрасной лепниной в причудливом восточном вкусе. В одном месте дорогу ему преградило множество арб, ведомых нерасторопными, вечно жующими буйволами, а затем – караван из нескольких десятков верблюдов, навьюченных белыми кожаными тюками. Они, мерно покачиваясь и гремя бесчисленным множеством бубенчиков, несли на своих горбах пестрые ковры Персии и богатые шали Индии.
Пробираясь взглядом по закоулкам, он на каждом шагу встречал ремесленников, работающих не в мастерских, а под открытым небом, на солнце, раскаляющем своими прожигающими насквозь лучами груды камней, сложенных в дома и сакли. Все самое лучшее, что производил Восток, было собрано здесь, на этой улице: различных оттенков сукно, кожаные ремни, косматые черные бурки, оружие горцев. И персидские узорные ковры, шелковые ткани и расписной фарфор из самого Китая…
Ослепленный пестротой товаров, разнообразием лиц и одежды, оглушенный суетливой деятельностью торговцев, он и не заметил, как, приблизился к древней святыне, стоявшей среди шумного сборища разноплеменных народов, к Сионскому собору. Он хотел увидеть крест Святой Нины, сложенный из двух кусков виноградного дерева и перевитый волосами святой. Оглушительные крики раздавались вокруг – здесь торговцы предлагали прохожим купить у них восковые свечи, ладан и другие предметы для спасения души. Молчаливая толпа в полутьме собора согрела его своей теплотой. Священник певуче читал псалтырь, запах ладана в таинственном, сладостном покое лежал на воздухе и щекотал ноздри, шелестело пламя свечей, успокаивая неприкаянное сердце. Темные лики многозначительно смотрели на него с древних фресок. Эх, знать бы, о чём они желают поведать? Увы, этого умения ему не дано свыше. Но как же любил он созерцать стенную церковную роспись древних мастеров! Никогда не уставал глядеть, запоминать и учиться у них, давно ушедших в мир иной художников и иконописцев! Напоследок, глубоко вдохнув в себя сладковатый дым мирры, он покинул храм и вошёл в прекрасный и массивный караван-сарай, с его внутренним двором и бассейном посередине.
Наконец, миновав Армянский Базар, он оказался на Эриванской площади. Здесь брал свое начало новый Тифлис. Совершенно европейский, расположенный в равнинной части города, он продолжался широким, в целых двадцать саженей, и правильным Головинским проспектом, с построенным в стиле эпохи Ренессанса величественным и изящным Дворцом Наместника русского императора на Кавказе, в саду которого растут два чинара, посаженные еще Ермоловым, и Штабом командования войск Кавказского военного округа. А неподалеку, на Гунибской площади, вырос громадный Александро-Невский Военный собор в византийском стиле. В собор ведут массивные двери темного резного дуба с бронзовыми украшениями, а сам он обильно освещается через 81 окно. Стены его покрыты живописными изображениями и орнаментом, а внутри – щиты с перечислением полков, участвовавших в покорении Кавказа. Вокруг собора красивыми группами стоят пушки, отбитые разновременно у персиян, турок и Шамиля. Параллельно Головинскому проспекту двинулись и другие улицы, вверх, на Мтацминда, и вниз – к Куре, где на Михайловской, Елисаветинской, Александровской и Воронцовской улицах возвышались ампирные или ренессансные постройки двух и трехэтажных зданий, которые вполне могли бы украсить и перспективу Невского проспекта в Петербурге. Здесь находились новенькие магазины, музеи, всевозможные учебные заведения, банки, конторы деловых людей и доходные дома, а также – редакции газет и журналов, что выходят на грузинском, русском, армянском и других языках. И если в старом городе карачохели запивают свою печаль кахетинским вином, то здесь аристократия потягивает французский коньяк под звуки французского шансона. Господа, гуляющие по Головинскому, ничем не отличаются от живущих в Париже или Петербурге, холодно демонстрируя модные европейские новинки. Вот, к примеру, эта изысканно одетая пара, что привлекла внимание нашего героя: молодая женщина в бархатном платье, из-под которого то и дело легкомысленно мелькают туфельки, держит в одной руке кружевную парасоль, обильно украшенную лентами, в другой – руку мужа. На нем не менее щегольской наряд в комплекте с навощенными усами.
Внезапно откуда-то издали донеслась быстрая дробь копыт. Извозчик кричал во все горло: «Ха-бар-да!», то есть посторонись! Пара превосходных жеребцов, запряженная в старинный экипаж, галопом промчалась по Головинскому, и, осаженная туго натянутыми вожжами, остановилась на тенистой аллее у самого Дворца Наместника, у входа в который несут караул два жандарма в голубых мундирах. Похоже, нынче главноначальствующий Кавказской администрации изволит принимать высоких гостей… Он пошел дальше, встречая на своем пути франтов с тросточками, в модных пальто «а-ля полька», гуляющих под ручку с дамами в парижских шляпках с густыми перьями…
Два дня назад из Владикавказа он прибыл в Тифлис, и не просто так, а с важной миссией: открыть в помещении Кавказского Общества Поощрения Изящных Искусств новую школу по образцу московского училища живописи и ваяния. Он уже давно считал необходимым обустроить в Тифлисе местную художественную школу живописи, скульптуры и архитектуры, ведь и сам город оказался очень восприимчив к искусству. Надо пожелать им, впоследствии напишет он, побольше самобытности и смелости… Пусть каждый край вырабатывает свой стиль и воспроизводит свои излюбленные идеи в искусстве по-своему, уверенно и искренно, без колебаний, без погони за выработанными чужими вкусами…
Проезжая по Военно-Грузинской дороге, он, задрав голову, смотрел, как величественно вздымаются между мглой долин и синевой неба уходящие своими пиками в облака высокие вершины Кавказского хребта, покрытые шапкой из вечных снегов и ледников, на которые не ступала доселе нога человеческая. Скажите пожалуйста, подумал он, вот европейцы кичатся своими Альпами, а ведь Альпы в сравнении с Кавказом – пигалица, Монблан – мальчишка и щенок в сравнении с Эльбрусом и гордым Казбеком – излюбленным детищем поэтов.
Увидев в пути много нового и грандиозного, он в письме к знаменитому критику Владимиру Стасову назвал эту поездку одной из самых интересных в своей жизни. Он слышал грохот клокочущего Терека, в мутном русле которого ревели, неистово перекатываясь в пене, камни; видел на закате солнца Дарьяльское ущелье среди диких, серо-зеленых и красноватых причудливых скал и торчащих из расщелин сосен; восторгался водопадами и горцами воинственного вида в косматой шапке и черной бурке. Не доезжая до Ларса, слева от дороги, в пойме реки, лицезрел он величественно возвышающийся огромный гранитный валун – знаменитый «Ермоловский камень», изумивший когда-то Пушкина и Лермонтова. Говорят, по размерам этому монолиту нет равного во всей Российской империи и Европе. Затем был долгий спуск в долину Арагви, когда через окно кареты открывался вид на цветущие луга, откуда отчетливо доносились ароматы полевых цветов, и пашни, и едва заметные стада овец и рогатого скота, а убогие строения указывали на существование людей. Здесь царила поздняя весна, стояло блаженное тепло, и природа представала во всей своей пробужденной красе.
Проехав еще несколько верст пути, взору его предстали небольшие городки с их беспечно-веселым населением; навстречу катились тяжелые, неуклюжие двухколесные арбы, запряженные парой буйволов, еле-еле переставляющих ноги; и загорелый, в расстегнутой красной рубахе, с черными кудрявыми волосами погонщик, распевающий во всю здоровую глотку какую-то неуловимую мелодию, прерываемую гиком на животных и хлопаньем кнута. Далее пошли виноградные сады, фиговые, персиковые деревья. Становилось невыносимо жарко: солнце палило, обливая золотистыми лучами твердую землю, воздух был сух, а тряска и пыль невыносимы. Карета миновала Мцхету, древнюю столицу грузинских царей, переехала по прекрасному мосту реку Куру у слияния ее с Арагвой; духаны стали умножаться, ослы, навьюченные корзинами с зеленью, с углем, все более и более стесняли дорогу. Чувствовалась близость большого города, конечной цели его долгого путешествия.
Когда, наконец, карета поднялась на небольшой холм, глазам открылась огромная котловина со множеством сидящих друг на друге строений, с быстрой рекой, разрезающей эту картину; вдали, на высоком левом берегу, большие белые здания, далее неизмеримая равнина, сливающаяся на горизонте с полосой высокого хребта гор. Потом был спуск мимо памятника в виде креста, установленного в том самом месте, где государь император Николай Павлович, пожелавший в 1837 посетить свою южную окраину, дабы лично убедиться в положении дел на Кавказе, чуть не расшибся, вылетев из опрокинутого обезумевшими лошадьми экипажа, остановившегося в дюйме от бездонной пропасти, в которую он неминуемо бы свалился. Карета с нашим героем совершила переезд через речку Веру, и опять подъем, и – «пожалуйте подорожную», забасил унтер в фуражке с белым чехлом, выйдя из караульного дома, а ямщик в это время подвязывал колокольчик.
«Итак, я очутился в Тифлисе. Эта дорога, как сон, на всю жизнь останется в моей памяти, – восторженно писал он Стасову. – Величественное и впечатляющее зрелище!»
В Тифлисе за пять рублей в сутки заезжий гость снял дорогой номер в гостинице «Кавказъ», устроенной в доме Мирзоева на Эриванской площади – она считалась одной из лучших в городе после роскошного «Мажестика», принадлежащего Микаэлу Арамянцу. На первом этаже заведения располагались магазины тканей купца первой гильдии и председателя Тифлисской городской думы Александра Манташева, который впоследствии станет нефтяным магнатом и одним из богатейших людей империи. На столике в его комнате лежала открытка с видом на Метехский замок, со сделанной от руки надписью:
«Дорогой господин Репин, милости просим всолнечный Тифлис, впервоклассную гостиницу Кавказъ. Обстановка комфортабельная. Кухнею заведуетъ опытный кулинаръ. Кушанья европейские иазиатские. Обеды из4-х блюд 1р. Электрическое освещение ирасторопность ивежливость прислуги».
Спровадив услужливого портье чаевыми, Репин не сдержал улыбку: давно он мечтал пожить вот так – в неге и роскоши, но неустанная работа уводила мечту все дальше. Да и жизнь его за последние месяцы решительно изменилась.
Его первый брак с сестрой приятеля, Верочкой Шевцовой, оказался не слишком удачливым: поначалу худенькая смугляночка с длинной косой, задумчивыми карими глазами и тоненьким носиком была внимательной слушательницей его разговоров с товарищами и благодарной зрительницей его картин. После венчания они уехали за границу и провели там два года, побывав за это время в Вене, Венеции, Флоренции, Риме, Неаполе, Париже и Лондоне. Верочка родила ему четверых детей. Вскоре о его работах узнают по всей империи, у него проходят многочисленные выставки, его картины покупают не только известные меценаты, но и сам император. Разумеется, в его доме собиралась весьма пестрая публика – это и художники, и литераторы, и искусствоведы. И многие из них от нечего делать занялись злословием, ворчали, что, мол, блеклая и неинтересная Вера Алексеевна не соответствует статусу жены великого мастера. Ее упрекали в ограниченности и необразованности, говорили, что она не в силах понять гениальности своего мужа. Но ей, обремененной домашними хлопотами, не нравились все эти сборища. Не жаловала она и его многочисленных поклонниц, в числе которых были натурщицы и дамы полусвета.
А он, страстный художник, не умел устоять перед такой волной женского обожания, и у него вспыхивал один роман за другим. Одно время был он увлечен своей талантливой ученицей Верой Веревкиной, затем влюбился в молодую художницу Лизу Званцеву и писал ей длинные страстные письма, такие же, какие когда-то адресовал жене.
«Какяваслюблю! Божемой, боже, яникогданевоображал, чточувствомоеквамвырастетдотакойстрасти. Яначинаюбоятьсязасебя…Право, ещеникогдавмоейжизни, никогданикогоянелюбилтакнепозволительно, стакимсамозабвением… Дажеискусствоотошлокуда-тоиВы, Вы– всякуюсекундууменянаумеивсердце. ВездеВашобраз. Вашчудный, восхитительныйоблик, вашадивнаяфигурасбожественно-тонкими, грациознымилиниямииизящнейшимидвижениями!»— писал он Званцевой.
А Вере он объяснял, что искусство он любит больше добродетели, больше, чем близких, чем всякое счастье жизни, любит тайно, ревниво, как старый пьяница – неизлечимо… В попытке спасти брак, они прожили вместе еще несколько лет. Однажды в пылу ссоры Вера припомнила ему измены, и настоящие, и надуманные, а он, погорячившись, жестко сказал в ответ, что женщина с «таким лицом» должна быть благодарна удачливым соперницам. Тогда жена запустила в него тарелкой с супом и еле увернулась от летевшей ей в голову масленки вкупе с непотребными изречениями…. С ее губ сорвалось проклятье: «Дождешься… Один останешься. Стакан воды будет некому подать!». Но до пресловутого «стакана воды» было далеко: он, Репин, был еще молод, богат, знаменит, нравился женщинам и к тому же являлся отцом трех дочерей и сына. Вот уж точно одинокой старости у него не должно быть…
Последней каплей в их отношениях стала внезапная попытка Веры пофлиртовать с сыном художника Василия Перова. Пожелала она, значит, увлечь себя свободой действий, самостоятельной, так сказать, эмансипацией, что вызвало приступ его ревности и злости. Разрыв оказался неизбежен. Пропала семья! Они разъехались после пятнадцати лет брака, поделив детей: старшие остались с ним, а младшие – с матерью. Расставание было настолько болезненным и тяжелым, что он еще долго жаловался друзьям и с содроганием передавал им подробности многих своих ссор с супругой.
В дальнейшем в его жизни было несколько романов и безответных увлечений. Многие из женщин, с которыми он заводил знакомства, на первых порах как будто бы соответствовали его идеалу. Но по прошествии времени он начинал понимать: нет, им не хватает по-настоящему чуткого восприятия жизни. Если они и способны на что, так это идти только за признанными художественными вкусами, без каких-либо попыток опровергнуть или хотя бы усомниться в них. А чeлoвeк бeз yбeждeний – пycтeльгa, бeз пpинципoв – он ничтoжнaя никчeмнocть. И вот, наконец, пару лет назад он женился. Его избранницей стала глыба мыслей и фантазии – высокая, статная, румяная и цветущая сочинительница декадентских романов Наталья Нордман, покорившая его своей образованностью: помимо того, что она знает шесть иностранных языков и на все имеет свое мнение, которое готова рьяно отстаивать, она разбирается в искусстве, пишет повести для «Нивы» под псевдонимом Северова и, надо сказать, является одной из первых женщин, овладевших искусством фотографии. На фоне нелюдимой и часто тяжелой в общении Веры она показалась ему поистине ангелом. Когда он, Репин, отправился на юг, Наталья сопровождала его. В той поездке она забеременела – они так мечтали о совместном ребенке, – но, прожив на этом свете лишь два месяца, их дочь умерла.
Для жены, нуждавшейся в утешении, он за большие деньги приобрел два гектара поросшей кустарником и соснами земли с летней дачей в финском местечке Куоккале, в сорока верстах от Петербурга. В свое время через поселок провели свет и железную дорогу, построили почту, и поэтому в летнюю пору это место с удовольствием облюбовывали приезжавшие из столицы дачники – люди среднего достатка, степенные дамы, бонны с детьми. Они неспешно перемещались во время вечерних променадов по окрестным дорожкам, заглядывали в здешние кафе и ресторанчики и ощущали упоительное состояние покоя и мира. Вот и ему, Репину, казалось, что в этом задушевном месте, под шум волн Балтийского моря, он непременно оторвется от раздражавшей его столичной суеты. Они снесли старые постройки и возвели большой дом под стеклянной крышей, назвав его «Пенаты» – в честь древнеримских божественных охранителей домашнего очага. А потом он прикрепил этих деревянных божков к воротам усадьбы, которые сам и расписал. И был необычайно доволен полученным результатом. Перед домом разбили пруд. Веранда превратилась в мастерскую. И отныне по средам они с женой принимают гостей, знакомых и незнакомых им людей, желающих повидать его на дому в его необыкновенной обстановке. На станции уже с утра поджидают извозчики и, не спрашивая, куда везти, катят на санках прямо к «Пенатам», расположенным верстах в двух от пограничной станции в Белоострове.
У ворот гостей никто не встречает, зато по пути их следования развешаны таблички: «Извозчикам платите при отъезде с дачи», «Самопомощь! Весело ударяйте в гонг, входите, раздевайтесь в передней и заходите!», «Не ждите прислуги, ее нет». Ошарашенным гостям он всегда разъясняет: «Наталья Борисовна считает унизительным эксплуатировать чужой труд». Уже в коридоре каждого встречает напутствие: «Идите прямо!», оттуда гости попадают в столовую, посредине которой стоит огромный круглый стол, уставленный тарелками. Середина стола – большой круг – вращается на роликах: на нее ставят разные кушанья, сразу все, какие полагаются к обеду. Потянув за одну из ручек, можно повернуть середину стола – и нужное блюдо оказывается перед тобой. Да только вот гости все никак к этому новшеству не приспособятся и с ними происходят всякие недоразумения: только занесут половник над супницей, желая налить себе суп, как чья-то проворная рука повернет стол, суп уедет, а пустой половник зависнет в воздухе самым дурацким образом. Забавно смотреть! Но, вконец приноровившись, гости уже могут обслужить себя сами.
Проповедуя вегетарианство, Наташенька изобрела для гостей специальное меню: картофель в разных видах с постным маслом, капустные котлеты с брусничной подливой, овощные супы, биточки из клюквы, травяные отвары, рисовые котлеты, огурцы, зелень, свежая капуста, фрукты. И много вина, до которого она большая охотница, называя его «жизненным эликсиром». Сам же он при этом чуть ли не скрипел зубами, но и избавить ни себя, ни гостей от воли жены не мог. Пусть уж поступает как хочет!
– Ты вот, Алеша, как считаешь, есть от всего этого прок? – как-то спросил он Горького после обеда.
– Ну прок-то от всего есть, – усмехаясь в свои густые усы, ответил Горький «колоссу русской живописи». – Можно попробовать одно сено жевать. Лошадушками будем, не иначе.
И весело посмотрел на Репина. А Илья Ефимович ощущал в душе какую-то безнадегу. Будто он один дурак на всем белом свете. Сидел в доме нахохлившись. Не до любви ему совсем стало.
А Наташенька… Чувствуя себя единовластной хозяйкой, которой пристало быть в центре внимания, за обедом больше всех и громче всех говорит она, заставляя его порой испытывать неловкость перед знакомыми и легкое головокружение от ее несмолкаемого щебетания. Вот, давеча она объявила, что выпустила поваренную книгу для голодающих – с рецептами кушаний из сена и подорожника, а гости – он это заметил! – не знали: плакать им или смеяться… Уж постыдились бы, что ли, насмешники неблагодарные! Вместо того чтобы отзываться о нем как о талантливом художнике, они непрестанно злословят за глаза и кажуть: «Репин? Не тот ли это чудак, который сеном питается?». Вот и извозчики наушничают, что после «таких» обедов гости его прямиком мчат на станцию и сметают там все подчистую в буфете: здоровьице свое поправляют чаркой водки и бифштексом.
А ведь и он любит вкусно поесть, чего там греха таить. И вынужден, порой, сбегать из дома, чаще всего – в гости, чтобы наесться там до пуза. А когда бывает в Северной Пальмире, то опять же пренепременно заходит в ресторан на Невском или в кабак на Васильевском, чтоб разгуляться уж так, как привык в последние годы, без Натальиных глаз. И заказывает там все самое вкусное, запретное, а потом, воротившись, кается супружнице в грехопадении. Вот ведь и его друг Стасов считает, что он, Репин, словно пришит у ней к юбке, что поглотила она его целиком. Но, кто бы что ни говорил, а Наталья – баба хорошая, хоть и взбалмошная, и нужна ему, ибо соответствует его неуемному темпераменту. Хотя в тайных глубинах души, и никому более, он признает, что слишком ценит женскую красоту, чтобы отдать себя целиком одной ее представительнице. Попросту говоря, он влюбчив: а бурно влюбляясь, по прошествии времени он остывает и, не в силах врать, огорчает очередную любовь свою окончательным расставанием. Неужто же он делает это по собственному произволу?! Нет! Всему виной проклятая тяга к другой половине рода человеческого, он борется с нею, как умеет, но всякий раз проигрывает битву.
Вот так и сейчас, прибыв в Тифлис на пороге лета и тем самым обретя счастливую возможность уйти от холода жизни, ее мучительных сомнений и вопросов, то и дело всплывавших в его голове во всех мельчайших подробностях, он сызнова ощутил, что сердце и мысли его свободны. Хотя бы на время.
Хозяйской поступью пройдясь по номеру и весело насвистывая под нос, Илья Ефимович выглянул в окно: в самом центре площади высится окруженное широкими каменными тротуарами необычайной красоты здание караван-сарая благотворителя и купца первой гильдии Габриэла Тамамшева, построенное итальянцем Скудиери по мотивам базилики в городе Винченце. Скульптуры зорких грифонов охраняют вход в сей караван-сарай. Еще совсем недавно здесь располагался театр, о котором Александр Дюма, посетивший Тифлис в 1858 году, писал: «Зал – это дворец волшебниц, без зазрения совести скажу, что зал тифлисского театра – один из самых прелестных залов, какие я когда-либо видел за мою жизнь». В исполнении итальянских артистов на его сцене впервые прозвучала опера Г. Доницетти «Лючия ли Ламмермур», а также «Севильский цирюльник». Успех был огромный! Более двух десятков лет театр радовал поклонников своими постановками, но случилась беда: на первом этаже здания, где располагались торговые ряды, возник пожар, уничтоживший театр. Восстановить его уже не представилось возможным, но само здание оставили – реконструировали как Торговый пассаж.
Повернув голову влево, взгляд Ильи Ефимовича остановился на Православной Духовной семинарии, упиравшейся в небольшой, разросшийся зеленью сквер, в котором на пьедестале из красного камня стоит бронзовый бюст Пушкина. Он слышал, что деньги на памятник собирал весь Тифлис в память о великом русском поэте, который останавливался на этой улице. Вплотную к гостинице «Кавказъ» примыкал Штаб кавказских войск с башенкой и часами. А сразу за зданием Штаба брала свое начало Дворцовая улица.
В прекрасном расположении духа спустился он в ресторан, где его уже ждал стол, накрытый изумительными закусками и разнообразными графинчиками, которые так и манили их испытать. Он знал, что развлечений в Тифлисе в избытке. Здесь было где погулять – не меньше ста пятидесяти трактиров, более двухсот винных погребов, около двухсот кафешантанов и духанов, а среди них известные «Загляни, дорогой», «Сам пришел», «Сухой не уезжай», «Войди и посмотри», «Симпатия», «Хлебосольство Грузии», «Зайдешь – отдохнешь у берегов Алазани», «Золотые гости», «Вершина Эльбруса» и, конечно же, знаменитый духан «Не уезжай, голубчик мой». Выбирай любой! Кто только не пьянеет и не теряет здесь своего рассудка! А после кутежного веселья гуляки берут извозчика в армяке с яркими пуговицами и, удобно устроившись в фаэтоне на широких сиденьях из темно-красного бархата, несутся по ночному Тифлису, где после удушливого дневного зноя и сутолоки уже не слышны выкрики продавцов, закрыты все магазины и лотки. В такое-то время натруженный город отдыхает от забот. На кровлях некоторых домов сидят люди, наслаждаясь свежим западным ветерком, веющим с горы Мтацминда и со стороны садов Ортачалы, где в этот час вовсю гуляет дворянство и купечество. Гладкие, покрытые глиной и пылающие жаром плоские кровли охлаждают водой из чанов и кувшинов. Некоторые стелят ковры. Выносятся мутаки – цветастые подушки продолговатой формы. Где-то гудят общие увеселения, восхитительно пляшут лезгинку. А беззаботные гуляки, добравшись до квартала серных бань, бреются и моются в их бассейнах, а потом, свежие и обновленные, едут дальше, их фаэтоны катятся сквозь узкие улочки, обгоняя коляски-одиночки и другие фаэтоны, что понаряднее, явно петербургской работы, со спешащими в Ортачальские увеселительные сады князьями, сопровождающими своих разодетых дам и уже изрядно подвыпивших гостей. Любители пиров – кто быстрее, а кто не спеша – съезжаются сюда со всех районов Тифлиса: из Авлабара, Сололаков, Воронцова, Харпуха, с Хлебной площади и Шейтан-базара. И с радостью и нетерпением предвкушают покутить здесь как следует, пообщаться, на людей посмотреть и себя показать, послушать звонкий голос восторженного певца, ободряемого возгласами пирующих дардымандов, насладиться баятами и мухамбазами ашугов, увидеть веселые танцы кинто и другие забавные зрелища. Из приоткрытых окон и распахнутых дверей духанов слышатся песни, звуки зурны и саламури, мелодия шарманки. И носятся в воздухе волнительные и дурманящие запахи пряностей, которыми обильно приправлены грузинские блюда. У входа на мангалах поджариваются шашлыки из нежного мяса, бадриджанов и сочных помидоров, вокруг них пританцовывают краснощекие мангальщики, ловко совершая необъяснимый, почти магический ритуал над громко шипящими углями и исходящим от них одуряющим дымком. Рядом, в тонэ, пекут хлеб «шотиспури» и предлагают добрые кахетинские вина: Цинандали, Саперави, Телиани, Карданахи. «Эй, микитан, шевелись, тащи сюда весь бурдюк! И свежий шашлык из барашка, что еще утром бегал, травку щипал!». Гулять так гулять! До глубокой ночи! До следующего утра!
Купив по дороге букет белых роз, Репин подошел к дому княгини Дадиани-Шаховской за несколько минут до того, как башенные часы над Думой на Эриванской площади пробили трижды. Намедни он получил с посыльным ее приглашение, разбудившее в его душе томительно сладкие воспоминания давно минувших дней:
«Илья Ефимович, дорогой мой друг,
Срадостью узнала изгазет оВашем приезде. Свидетельствуя свое почтение, надеюсь видеть Вас усебя наобеде вчисле близких друзей. Жду снетерпением вэту среду, втри часа пополудни. Прошу неотказать.
Княгиня Софья Дмитриевна Дадиани-Шаховская».
– Конечно, не откажусь! – тотчас подумал он, прижимая к губам почтовую открытку и с наслаждением вдыхая дорогой запах парфюма.
Остановившись перед украшенным пилястрами величественным фасадом доходного дома в три этажа, он вскинул голову и взглянул на балкон с красивой чугунной решеткой: весь второй этаж занимала роскошная квартира той, кого он давно потерял из виду. Здесь, в Сололаках, многие дома застроены армянскими богачами. Все они каменные, в стиле ампир, с маскаронами на фасадах: их театральные лики улыбаются и гримасничают, хохочут и страдают, останавливая на себе взгляд любопытных прохожих. Дома эти имеют аккуратные железные балкончики и нарядные, порой помпезные, парадные, где на столбах, рядом с ажурной лестницей, установлены фонари, которые торжественно освещают внутреннее убранство, украшенное лепными карнизами и пилястрами. Толкнув резную дверь, он вошел в парадную и, едва касаясь кованых перил, стал быстрым шагом подниматься по мраморной лестнице, восхищаясь удивительной росписью стен и потолка.
Нет-нет, в юности он не был балетоманом, наоборот, он был совершенный профан в этом искусстве. И при виде милых барышень, семенящих на носках и, вытягивая высоко ногу, ставящих прямой угол к своему торсу, ему делалось скучно. Однако же, он хорошо знал, что самые красивые женщины в Петербурге встречались именно в балетной труппе. Софья Шаховская танцевала партию волшебницы Золмиры в спектакле «Руслан и Людмила». Она – воплощение грации и женственности – взрывала зал овациями, стоило ей ступить на сцену. Со всех сторон к ее ногам летели букеты, поэтому свою партию она танцевала на цветах, устилавших сцену. Только когда балерина вышла на поклон, тишину зала взорвали овации. В такую женщину нельзя было не влюбиться. В тот холодный и снежный вечер, купив букет роз, он направился к подъезду выкрашенного в бледно-зеленый цвет Мариинского императорского театра. На Театральной площади, тускло освещенной газовыми фонарями, стекла которых были запушены густым инеем, уже стояло немало мужчин. Держались они важно, расправив грудь, и по-деловому посматривали на часы, давая понять окружающим, что к столь долгому ожиданию они не привыкли. Среди них было несколько молодых людей, в основном юнкера и корнеты, появившиеся здесь впервые, также рассчитывающие вырвать у судьбы счастливый шанс заполучить в возлюбленные балерину. Мороз крепчал. Прохожие брели сквозь пургу, пряча лица за воротниками. Дамы кутали щеки в шали, часто стряхивая налипшие снежинки с ресниц. Пролетки с побелевшими спинами извозчиков тащились смутными тенями по белым рекам улиц. И не было конца шторму, налетевшему на прибрежную столицу с ледяного простора Балтики. Кучера топтались около карет и саней, хлопали рукавицами и перекидывались между собою замечаниями об адской погоде. Несчастный городовой переминался с ноги на ногу у побелевшего столбика.
– Господа, они выходят! – наконец-то выкрикнул юноша в студенческой шинели. – Богини!
Поклонники, прервав разговоры, в едином порыве устремились к распахнутым дверям, откуда в это время выходили танцовщицы…
Когда большая часть балерин разъехалась со своими воздыхателями, из театрального подъезда выплыла Софья.
– Куда изволите ехать, барышня? Я отвезу вас, куда пожелаете, – подошел крупный мужчина с золотой цепью на бархатном фраке.
– Спасибо, – ответила балерина с холодной учтивой улыбкой, – но меня должны встретить.