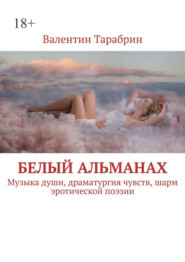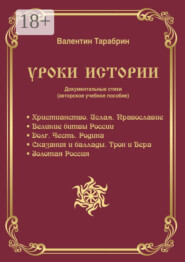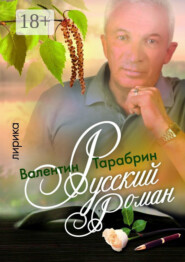По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старый добрый Гурьев. Историческая публицистика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ясно, что Мякишин мог возлагать надежды только на Астрахань. В тайном донесении он умолял срочно прислать сотню солдат и артиллеристов. «Кавалерию нельзя, – пишет он, – потому что лошадей кормить нечем, казаки сожгли все сено».
Выступления казаков резко нарушили коммуникации на линии крепостей и форпостов. Борьба правительства против казахских отрядов отвлекала много сил, она буквально парализовала возможность энергично и своевременно направлять карательные отряды на подавление повстанцев-казаков.
«Сверху реки Яика, – писал комендант Гурьевской крепости Мякишин, – то есть от Оренбурга до Яицкого городка по низовой линии, по крепостям и форпостам, почти никакого проезду назад тому третий месяц, да из Гурьева к Оренбургу также никакого отправления писем не имеется. Сначала по причине оказавшегося в этом здешнем краю самозванца, а потом по опасности здесь киргиз-кайсацкого, перешедшего со степной на внутреннюю сторону реки Яика народа».
Мякишину стало известно, что казахи приготовились напасть на Сарайчиковскую крепость, находившуюся в нескольких десятках верст от Гурьева, овладеть ею, а затем захватить Гурьевскую крепость, разорить ее и, забрав крепостную артиллерию, идти на Волгу.
Вскоре в районе Нижнего Яика казахи действительно начинают атаковать форпосты. 11 ноября около 20 всадников ворвались на Яманхалинский форпост, «так что отбить их вооруженно едва было можно». 19 ноября джигиты берут в осаду Зеленовский форпост, расположенный между Кулагиной и Тополинской крепостями. «Киргиз-кайсаки, – доносил есаул Саратовцев, – проезжая каждодневно многолюдным собранием, приступы чинят». 26 ноября комендант Яицкого городка Симанов доносит правительству, что «во всех местах киргиз-кайсаки путь пересекли, а с нижней дистанции уже давно рапортов нет».
Действия казахов у низовых крепостей действительно были более решительными, чем в других местах. Поэтому в первых числах декабря начинается отвод команд из малых форпостов в крупные крепости. Сотня казахов, несших службу в Гурьевском редуте, переводятся в город Гурьев, а гарнизон ямахалинского форпоста – в Баксаевскую крепость.
Однако эта мера не спасает положения. Казахи атакуют крупные крепости. В первых числах декабря отряд в 400 человек напал на Сарайчиковскую крепость. Высланная из Гурьева команда в 60 казаков, при одной пушке, помогла сарайчиковцам отбиться, но вскоре хозяевами положения в окрестностях как Сарайчиковской, так и других крепостей сделались казахи.
Количество их не поддается учету. Общее представление дает донесение Симанова Сенату: «Киргизы перекочевали на внутреннюю сторону вместе с семьями своими, простираясь от Котельного форпоста до Гурьева, и притом так множеством, что на ста семидесяти верстах едва вмещаются».
22 января 1774 года Комендант Астрахани В. Левин спешно направил в Гурьев карательный отряд в 150 человек во главе с майором Арбековым. Экспедиция не смогла переправиться через Волгу и возвратилась обратно.
Со второй попытки Арбеков добрался до Красного Яра. Было решено дождаться морозов или весны.
В это время под Яицким городком велись минно-подрывные работы. Пугачев лично руководил ими. Уезжая в Берду, он поручает атаману Андрею Овчинникову занять Гурьев, доставить под Уральск крепостные запасы пороха. Овчинников отправился с тремястами казаков.
По пути они прихватили пушки из Кулагиной, Тополинской и Сарайчиковской крепостей. К ним присоединился весь гарнизон Сарайчиковской крепости во главе с есаулом Я. Ивановым. 25 января 1774 года они подошли к Гурьеву. Овчинников понимал, что штурмовать солидную по тому времени крепость – дело нелегкое. На семи башнях и по стенам были установлены 24 пушки, 7 гаубиц, мортира. В отряде же Овчинникова в это время находилось, по одним сведениям, 300 человек и три пушки, по другим – 200 человек при одной пушке.
Овчинников вступил в переговоры. Сначала он направил к атаману Филимонову сарайчиковского есаула Якова Иванова, Ивана Думчева и Семена Жерехова с тем объяснением, чтобы он, Филимонов, безо всякого кровопролития сдался. И Филимонов отказался. Овчинников послал еще одну депутацию.
Депутация «увещевала» старшину Филимонова, чтоб «оной с честью его Овчинникова встретил и сопротивление не чинил». Филимонов опять отказался. Тогда Овчинников приказал взять Гурьев с боем.
Пугачевцы пошли на приступ Бухарской стороной. Со стен, с того угла, где укрывались сторонники царских властей, заговорили пушки. Но огонь не причинял наступавшим существенного вреда – они шли по камышам. Подойдя вплотную, Овчинников «на первый по нем пушечный выстрел бросился на городовые стены, на коих были с той стороны одни бунтовщичьей стороны казаки, и с помощью их в город ворвался».
На дальнейший ход борьбы посмотрим глазами повстанца Ивана Чеганова: «и забравшись снизу от загородного строения, подошедши к градской стене, прямо через оную с помощью предоставившихся в городе казаков, которые нас сами через стены принимали, в город и вошли. И приближаясь к крепи, где старшина Филимонов с офицерами и подобными им находился, начали производить по ним пушечную и оружейную стрельбу. Однако ж напротив, того и он, Филимонов, со своей стороны таким же образом ответствовать не отступали, коей стрельбы не продолжалось более, по примеру, один час, отчего и последовал с обеих сторон урон людей. Сколько, с которой убито, не помню, однако та крепь нами штурмована». Комендант Мякишин был убит. Небольшой отряд Филимонова бежал, но был настигнут.
26 января выносится смертный приговор Филимонову, священнику Д. Семенову, писарю Жерехову – всего девяти сторонникам правительственных властей. Конфискуются денежные средства и ценности у купца Кулпина, переведенца Аршинова, священника Н. Иванова. Позже, по распоряжению из Уральска, реквизировали «множество разных вещей» у богатых казаков И. Щапова и И. Иванова.
Отдав последние распоряжения, Овчинников покинул город. С ним отправились на помощь Пугачеву повстанцы Гурьевской, Сарайчиковской, Тополинской крепостей и форпостов. В обозе везли 60 пудов пороха.
В начале февраля красноярский комендант подполковник Пирогов сообщил губернатору Кречетникову, что Гурьев занят пугачевцами. Подробности Пирогову поведали бежавшие из Гурьева купец Кулпин и переведенец Аршинов. Пирогов умоляет астраханский магистрат выслать полтысячи калмыков, «дабы от чего (боже сохрани!) сверх чаяния не смогло последовать и здесь такого злого примера по нападению от тех изменников в соединенных силах с кайсаками».
Кречетников сам был в панике: он боялся, чтобы гурьевцы не перебросили пожар в Астрахань. В письме в Сенат (9 марта) губернатор высказал опасение, как бы сам Пугачев, уходя от преследования, не возымел намерения через Астрахань «при помощи киргиз-кайсак пробраться на Кубань». Усиливается патрулирование морских вод у волжского устья, принимаются меры предосторожности на рыбных промыслах и ватагах вдоль всего побережья от устья Волги до Урала. Страхи губернатора имели основания. В письме от 28 марта 1774 года он с большой тревогой говорит о «появившихся по рекам Астрахани русских воровских партиях». Кречетников требует от городского магистрата срочно послать «на поимку и искоренение» не только все воинские команды, но и «вооруженных людей» с рыбных ватаг, а также обыкновенных градских жителей».
10 марта снаряжается бот к устью Яика узнать, «нет ли замыслу приехать к Астрахани». Началась подготовка новой карательной экспедиции. На этот раз ее организацию Кречетников взял в свои руки. Вину за провал первой экспедиции он возложил на оберкоменданта В. Левина и губернаторскую канцелярию, обвинив перед Сенатом в «крайней слабости». Теперь Кречетников потребовал от Левина все мобилизовать на освобождение Гурьева и форпостов; «покуда они все там (повстанцы) не истребятся и город от них не отберут, без того ни о каких невозможностях не репертовать».
Из-за всеобщего брожения в Астраханской губернии и ее окрестностях, формирование экспедиции закончилось к середине марта. Карательный корпус состоял из 3-й легкой полевой команды, в которую входило 700 человек пехоты и кавалеристов при 4-х орудиях, рота Арбекова, 200 донских казаков, 300 калмыков и 150 человек вызвались из Царицына. Возглавил экспедицию командир второго батальона подполковник Е. Кандауров. Если не удастся взять Гурьев военною силою, Кречетников требовал сжечь его. «Всех их дома огню предать!» – рычал в напутствие рассвирепевший крепостник.
Для блокады Гурьева с моря и с целью отрезать путь повстанцам на Мангышлак, «к туркменским или персидским берегам», капитану первого ранга И. Токмачеву отдается распоряжение подготовить судно и исправного сержанта с 30 солдатами «самых отборных людей».
26 марта корпус Кандаурова уже находился в пути. Получив сведения о расположении Пугачева под Татищевой и Оренбургом, губернатор направляет предписание Кандаурову «паче всего самого их начальника Пугачева предостерегать…».
От генерала Мансурова, занявшего Яицкий городок, Кречетников потребовал прислать подкрепление Кандаурову. Струняшев пытался усилить оборону Гурьева, он направлял в крепости по Уралу призывы к казакам прийти на подмогу гурьевцам. С таким поручением «на 6-й неделе поста» выехал казак Гурьевского редута Иван Тудаков.
Гарнизоны Тополинской и Кулагиной крепостей высказались за уход в Гурьев. Но поскольку Уральск был занят (16 апреля) правительственными войсками, миссия Тудакова осложнялась. Зажиточное казачество Кулагиной крепости заколебалось, кулагинцы решили вступить в переговоры с казаками Калмыковой крепости и поступить так, «как те присоветуют». Серьезной ошибкой было и то, что они отказались от поддержки бурлачества.
Калмыковцам Тудаков говорил: «Надобно всем непременно идти в Гурьев, там место крепко, да и хлеба много». Он уверил, что в Гурьеве можно «построение загородное сломать и сделать острог, а для пушек и пороха ехать в море и разбивать суда». Тудаков предлагал также третий вариант: «в Гурьеве детей и жен оставить, а самим идти на помощь Пугачеву».
Однако калмыковцы колебались. Ведь до приезда Тудакова там побывает с «увещевательными письмами» посланец Уральска Витошнов. Когда же беднейшая часть казаков уже готовилась к уходу в Гурьев, полковник Матасов, «собрав старшин и согласной стороны казаков, их злой совет пересек». Таким образом, Гурьев поддержки не получил.
Между тем корпус Кандаурова подвигался на город. Сопротивление оказалось безнадежным: каратели имели десятикратное численное превосходство. Неустойчивая часть казаков склонила Струняшева к капитуляции (2 мая).
Начались расправы, многих повстанцев, заковав в кандалы, отправили в Яицкий городок, где их ждали следственные пытки и виселицы. Струняшев умер в тюремных застенках Яицкого городка.
Преследовались родственники повстанцев, конфисковались их имущество, рыболовные суда. Некоторые из участников восстания бежали в глухие степные места, скрывались у дальних форпостов.
Казнь Емельяна Пугачева в Москве на лобном месте Красной площади: «Прости народ православный!» (Е. Пугачев)
Начались облавы. Из степи и лесов в Уральск тащили всех, даже семидесятилетних отшельников-раскольников. По крепостям и форпостам были воздвигнуты «виселицы, глаголья и колья».
В Гурьеве насилия продолжались столь долго, что даже князь Г. Потемкин, этот ревностнейший слуга императрицы Екатерины II, в письме к А. В. Суворову вынужден был высказать свое недовольство. Тем не менее, казаки оказывали глухое сопротивление еще и в 1775 году. В мае месяце этого года в Гурьеве поднялась большая паника, в связи со слухами о появлении на Каспии значительных отрядов повстанцев под предводительством атамана Заметаева.
Таким образом, выступление повстанцев нижних форпостов и крепостей, где была сосредоточена беднейшая часть яицкого казачества, различного работного люда и бурлаков, вылилась в более последовательную антикрепостническую борьбу. Поэтому Пугачев рассчитывал вновь собрать здесь ядро казачества, привлечь бурлаков восточно-каспийского побережья и, поднимая казахскую бедноту, – попытаться снова развернуть мощное наступление против дворянской монархии.
1974
Часть III. Гурьевъ-городокъ
Из Яицкого городка в Гурьев
В. Костиайнен, ст. инструктор областного комитета по культуре
Не безынтересны отрывки из труда Петра Симона Палласа «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (Санкт-Петербург, 1773 год, том 1).
В 1769 году автор проехал по Уральскому тракту, связывавшему Гурьев не только с Россией, но и со Средней Азией, Сибирью. В своей книге, описывая путешествие из Уральска в Гурьев, П. С. Паллас объясняет историю географических названий всех встречавшихся на пути населенных пунктов, преимущественно сохранившихся до наших дней, хотя зачастую и в ином написании или произношении, рассказывает о быте местного населения…
«1769 г., августа с 1 по 12 число. …Отправился из Яицкого городка в Гурьев…
Возвращение с плавни
Крепость Индерских гор, 14 верст (территория нынешней Гурьевской области). … стоит на высоком, весьма выгодном месте, подле лощины, укреплена обширною бревенчатою стеною, и больше населена, нежели крепость Калмыкова, …в ней нет церкви. Здесь находится есаул, хорунжий и 60 человек казаков, в числе коих больше трети калмыков и татар.
Гребенщиков форпост, 17 верст. Здесь видны кусты гребенщика, по которому оный форпост переименован…
Кулагин городок, 16 верст. Небольшая крепость Кулагина, хотя несколько просторнее Калмыковой, но не лучше выстроена, также в ней нет церкви, и укреплена только фашинным валом и рогатками, так как и следующие форпосты. Она стоит на высоком месте в недальнем расстоянии от Яика. Гарнизон состоит в ведомстве командующего по всей линии атамана, подсудного гурьевскому коменданту. Калмыки и татары составляют большую часть здесь служащих казаков, которые развели великие арбузные сады, потому что очень хорошо родятся, и отсюда оными снабдевают прочие места по линии. Между калмыками находится Дзюнгорский поп или геллюнг, имеющий у себя десяток учеников, манджи называемых.
Царица Урала – белуга
Находящаяся при Кулагине древность из средней Российской истории особливо достойна примечания, а именно там есть знатный шанец, который известен яицким казакам под именем Маринкина городка; но они не знают больше никакого о том известия, как только сие, что Маринка была такая женщина, которая в прежние времена ходила на разбой из оного городка. За вероятное почесть можно, что сие место укреплено и переименовано по Марине Сендомирской, супруге ложного Дмитрия. Маринкин городок находится по сию сторону Кулагинской крепости, полторы версты от оной, на высоком степном месте, при буераке… Шанец имеет вид прямого угла с кривыми сторонами, которые кончаются при упомянутом буераке… К оному видны три проезда, а именно самый большой в западную сторону к калмыцкой степи, и два малые от сторон шанца к юго-западу и к северо-востоку. Внутри шанца находятся земляные кучи, произошедшие от подземных жилищ, которые, по объявлению казаков, прежде там бывали.
…Кулагин ерик, именованный в старину по казаку, который, как-то сказывали, наловил там множество рыбы, и по оном же казаке… названа крепость Форпост Зеленой колок, 25 верст. Сие место называется Зеленой колок, и по оному форпост переименован.
Форпост Тополевой, 15 верст… Стоит близ Яика, на высоком полуострове при буераке, в котором находится худая непроточная вода, а оный форпост переименован по стоявшему там большому тополевому дереву.