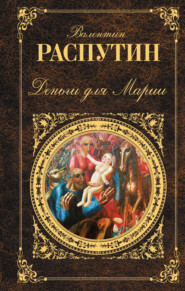По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание повестей и рассказов в одном томе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я была девочка… мечтательная. Намечтаю, намечтаю – до температуры. Сейчас в кино показывают, а я мечтала ничуть не хуже…
– Хоть голыми руками бери, да?
– Не шибко-то. Я как стеклышко была, хочешь знать…
– Ав пионерах ты, стеклышко, ходила?
– Конечно. В третьем классе принимали. Как бы я не ходила – всех принимали.
Вмешался еще один голос:
– В Мексике восьмилетняя родила…
Голос девицы достиг неподдельного целомудренного изумления:
– Зачем рожала-то?
– Во славу мексиканского отечества. Ей, как рекордистке, миллион зелененьких отвалили.
– Вре-ошь!
– Ты что – Америку не знаешь? Не там ты, стеклышко, родилась.
– Еще не все потеряно. Она махнет туда и двинет рекорд с другого конца. Родит в восемьдесят восемь лет. Сразу сорокалетнего.
…Всегда были такие разговоры, как без них?.. Но не было – чтобы на весь салон, демонстративно.
Я откинулся к окну, прислонившись к прохладной обшивке, и закрыл глаза. Размышлял: почему раньше высота, неестественное, висячее положение над пропастью в десять тысяч метров от земли всего с двумя металлическими крыльями почти на двести человек невольно смиряли страсти, невольное чувство опасности заставляло говорить глуше, притаенней, уходить в себя и почему этого нет среди теперешних молодых? Другие люди, другое поколение, сделавшее шаг вперед по сравнению с нами в новую атмосферу, физическую и психическую, для психики которых становится обычным, рядовым то, что в нас только еще зарождалось? Или от более простого чувственного сложения, от происходящего изменения, перерождения человека в какое-то новое существо, приготавливаемое для встречи с будущим? Я летал много, привык к высоте и вступаю на борт «воздушного корабля» без страха, отдаваясь на волю случая и Бога, но всегда, как только самолет отрывается от полосы, не могу я не ощущать свою вырванность из земли, как растение с оголившимися корнями, не могу я избавиться от чувства беспомощности, являющегося от неспособности пользоваться данными природой приспособлениями для жизни. Мои крылья там, внизу. Эти несколько часов перелета из пункта А в пункт Б я не живу, а сохраняю способность к жизни, хотя и могу занять эти часы тем же, что и в нормальных условиях, – чтением, обдумыванием, заметками «на полях», определенным итоживанием «земных» дел… Но все как-то подсеченно, без полного дыхания.
Эти – нет. Они чувствуют себя на высоте… как на высоте, для которой они созданы, они верят, что руки при необходимости способны вымахнуться в крылья, и тогда им удастся испытать еще более приятные мгновения, которых жаждет молодая душа.
Стюардессы вкатили в салон тележку и принялись быстро раскладывать перед нами тощие комковатые пакеты в хрустящей бумаге. Всего там и было: холодное вареное яйцо (без соли), две печенюшки, измазанные яблочным джемом, и пакетик с растворимым кофе. Одно утешение, что к кофе принесли кипяток, а не что-то такое, что напоминает собираемую с крыльев и едва подогретую наморозь. Но мы еще не знали, что этой малостью нам придется довольствоваться до Москвы, что Новосибирск, где происходит дозаправка, самолет заправит, а пассажирам откажет. Опять будет утешение: хорошо, что не наоборот. Наш брат, отдаваясь Аэрофлоту, только и делает, что радуется. Радуется, что досталось место, что удалось попасть в туалет, что на десять минут из шести часов в воздухе выключили музыкальный рев, какого не держат и в аду, что перед трапом в клящий мороз или лютую жару держали не до смертного, а только до сердечного удара, что чемодан вернули годным еще для одной поездки.
Счастливые были времена! И каждый из нас, выходя в порту назначения, считал себя заново родившимся. Оттого и грустно расставаться с Аэрофлотом, что навсегда теперь мы лишаемся этих воскресительных радостей приземления, чудесным образом умевших превращать неприятности полета в забавные приключения.
Но пока мы летим… летим, протыкая небо птицеподобной стрелой, в полом чреве которой гулко и дробно бьется жизнь.
Обед был так непритязателен, что на него хватило пяти минут и на десерт осталось удивление, вместе с которым можно было поразмышлять о неровностях дорог, избираемых отечественной историей. Но и после этого меня ожидало вознаграждение: стюардесса предложила второй пакетик с кофе и подлила кипятку. Закуска раздразнила аппетит, а кофе притупил. Очевидно, еще лучше он притупляется табаком. Зачадили, зачадили уже открыто, намешивая, нагущая «атмосферу», превращая ее в клубящуюся облачность, забивающую дыхание. Вспомнилась фраза Толстого: «…поощряя пищеварение курением сигареты». Для «поощрения» врубили еще музыку, способную дробить камни. Я прежде запасался затычками для ушей – не помогает, децибелы, как рентгеновские лучи, проникают сквозь любую оболочку. Но прежде до такого громоподобна и не доходило. Неужели все это способно оставаться внутри самолета и не выплескивается наружу – разорвет же! На этот раз не я, а женщина рядом со мной придержала стюардессу: нельзя ли потише? «Нельзя, требуют еще громче». – «А что – можно еще громче?» – удивился я. «Нельзя», – как будто понимающе вздохнула стюардесса.
Игра в карты продолжалась – все с тем же стуком и распаляющимися вскриками. Игроки достали вторую бутылку водки. Все было выброшено за борт – и «не курить», и «не распивать». И как быстро: три месяца назад еще поддерживалось, теперь – рухнуло окончательно. Крайний к проходу парень, джинсовый костюм на котором только подчеркивал порочные манеры, в такт музыке и игре, вскрикивая, выплясывал в кресле какой-то уж очень отчаянный танец. Сидевший за ним, с оббитыми коленками, терпел. Игра «поощрялась» матом. Отставник, мучающийся за жену, вмешался – его в три глотки тем же словом одернули; жена торопливо и испуганно принялась удерживать: не надо, не надо, успокойся. Он закрыл глаза.
Закрыл глаза вслед за ним и я. Должно быть, для соседей моих, возвращающихся в Ригу, вопрос решен: России нет. Искать пристанища по кровному родству негде. Там глухая нелюбовь, подчеркнутая, рассчитанная, там люди решительно разошлись на «своих» и «чужих» и «свои» выживают чужаков по племенному неприятию; здесь – разгул нравов, выплеснувшихся со дна. Там расистское, десятилетиями лелеемое «я хозяин», которому выпал случай показать себя во всей красе своего самолюбия; здесь «я хозяин» – от социального пиратства, захватившего дрейфующее государство, от «паханства», выпущенного на волю и получившего простор для утверждения своих законов, по которым людской мир состоит из своих, «воров» и предателей, «сук». Последние ничего другого не заслуживают, кроме презрения и смерти. И как там узнают друг друга кожей, так и здесь свой всегда отличит своего и вместе они сойдутся, чтобы явить право сильного.
Наступил праздник воли, грянуло неслыханное торжество всего, что прежде находилось под стражей нравственных правил, – и тотчас открыто объявило себя предводителем жизни таившееся в человеке дикобразье, тотчас выступило оно вперед и повелительно подало знак, до того понятный только в узком кругу… Как в заброшенной деревне: едва лишь оставят ее, сразу наползает колючий густой кустарник, заполняя улицы, сразу до крыш вымахивает крапива, лезет в разверстые окна и двери, тянется из-под полов, семенится в протрухлявевшем дереве амбаров и стаек. И ветры хлещут обезлюдевшие дворы особенно нещадно, и дожди секут без меры, и река, кормилица-поилица, к которой приникала деревня за милостью сотни лет, выгрызает, ако хищник, берег… Что деревни! – города, огромные, богатые, камнем нетленным глубоко в землю вбитые и высоко в небо вздетые, дивной красой изукрашенные, бывшие стольными в своих государствах, на весь мир гремевшие, – и города зарастают лесами, заносятся песками, превращаются в одну могучую развалину былого могущества, как только отступает человек… Прежде отступает от правил, от установлений, крепящих нравственный порядок жизни, а уж после – спасаясь от воспламенившегося окаянства сограждан. Так же погибали государства, цивилизации. Существует свой пошив любой человеческой организации, будь то национальное государство или межэтническое поселение где-нибудь в Сибири или на Балканах, создаваемых с нравственными целями. Как только целью пренебрегают, швы расходятся…
Россия есть… Как бы сказать соседям, не обидев их вмешательством, что есть она, да только опять на вздыбях, как на дыбе, с вывернутыми руками. С Петра повелось и все не кончится, что пуще иноземного нашествия терзают ее собственные великие преобразователи, борющиеся с отсталостью. Из какой-то выцеленной, вытружденной магическим труждением, сквозь времена хранимой утробы рождаются они, с каким-то необъяснимым везением подвигаются к цели, пролезая и сквозь игольное ушко… И вот снова в сиянии, в славе, приветствуемый народом как спаситель, объявивший, что он выведет многострадальный народ из пленения египетского, вернет его к обетованной жизни, освободит от физических и духовные теснений, – снова Он, и по его дерзкому призыву собираются люди со всех имен, больших и малых, российских владений на «подвиг спасения», оставляют труды и заботы, связанные с «проклятым прошлым», недосеянные поля, недостроенные дома и недокормленных детей… Жаждущими обновления тысячами тысяч сгруживаются на один край, а за другой, освободившийся, цепляют крепкими тросами и начинают накручивать на барабаны, отрывая от вековой сращенности. Тросы натягиваются, звенят, вспыхивают кисточками разорванных нитей – и взлетают в воздух с оборванными глыбами задираемого земного поля. Снова цепляют за него мощные тяги, закрепляют надежней и снова начинают накручивать еще яростней. Треск, стон, вздохи разрываемого тела, обнажившаяся плоть, открывшиеся гробы, спадающие с подножья отрываемой платформы, – и все же она ползет, поднимается, она все выше и выше… «Что вы делаете?! – кричат одни с нее. – Ведь мы же свалимся, убьемся, все настроенное сорвется и побьется в черепки!.. Как можно?! Прекратите!» – <Дд сгинет тьма египетская, в которой мы влачили жалкое существование, – отвечают другие, накручивая. – Да здравствует цивилизованная жизнь!»
Все выше и выше задирают – и вот уж на ребре Россия, с ободранными кровоточащими краями… Теперь развернуть и уронить, нагретым в испод. Валится, валится с нее нажить, личная и общественная, вся вековая обстава, сползают лесные рощи, выплескиваются реки, из шахт глубоких, с гор высоких летят камни. Что не удержалось, то и не нужно, обойдемся. Разбившиеся – разбились, оставшиеся в живых – затаились. Государство переворачивают – не щепки, а века истории прочь летят. И, развернув, примерившись, – хлоп на место, оборванным наверх. Все – возврата к старому нет, освободились. «Но как тут жить? – очнувшись, робко и недоуменно спрашивают наконец и потрудившиеся во имя оборотной России. – Тут же ничего не осталось… одна пустыня».
Преобразователь утомленно и презрительно улыбается. Он свое дело сделал. Подобно Моисею, он вырвал народ из-под власти фараоновой, но для этого пришлось вырвать его из родной земли и отправить в пустыню, пообещав после недолгих и нетрудных скитаний возвращение обратно, в преображенные и плодоносные Палестины. Надо было действовать решительно, дабы напомнить о пленении, зарастающем травой забвения, – и только он годился для таких действий, он был избран и наставлен, как заставить народ служить ему. Пустыня… По книге судеб и должна быть пустыня. Они, пошедшие за ним, еще не ведают, через какие стенания им придется пройти и какие фараоны будут искать их служения.
Перевернули – и все нижнее, потаенное, скрытое оказалось наверху. И наоборот. Надзиратели и камерники побратались, сделавшись учителями, и из ущелий человеческого духа вынесли свои нравы для общего пользования. Никакая революция, кем бы она ни затевалась, не может обойтись без того, чтобы ее не подхватили темные души и не превратили в свою собственность.
Что спрашивать с молодости, которую окунули в этот порядок, выдав его за воскрешающую купель, за благодатную ростепель после ледникового периода, под солнцем которой заиграла жизнь?! Не может не понимать молодость, что не ей гулять в тех райских кущах, что взращиваются торопливо с ее помощью среди попущений и разрушений, и что не она будет наследовать собственность, в которую, как строительный материал, вгоняется Россия. Но жажда сверкнуть, взыграть в жизни, урвать свой куш среди всеобщего растаскивания, превратиться во что угодно – в бабочку-однодневку, в жука навозного, в любого паразита с крыльями, но мелькнуть среди роскоши садов эдемовых, – жажда эта сильней, и ею лихорадочно стучит сердце, перегоняя слепую кровь. Что спрашивать с нее, если на глазах она перерождается в вид, не подлежащий спросу?
Я очнулся от «объяснений». Соседка спала, склонив голову на плечо мужа, и он, боясь потревожить ее, сидел неподвижно, уставив перед собой все так же объятые болью глаза. Картежники продолжали развлекаться, тасуя то карты, то пластмассовые стаканчики. Музыка взяла короткий перерыв. Мы подлетали, при снижении она снова нас развлечет. В салоне стоял тот плотный и ровный сильный гул, соревнующийся с шумом мотора, из которого никакому отдельному звуку не выплеснуться. Мы сидели в нем, как камешки на дне мощного круговорота, оно ударялось в нас, оглохших и одновременно звучащих, подхватывало наши голоса, наполнялось, накалялось и кружило еще гульней. Впереди меня молодой человек, за полтора часа ни разу не напомнивший о себе неприятно, продолжал читать учебник по маркетингу. Странно, однако же, почему мне неинтересно знать, что такое маркетинг. Что-то из основ новой жизни… Не мое, меня от этой жизни уже отбило. Правила специальных движений для достижения успеха, для которого я не гожусь…
Да, включили, загрохотало с подвывами опять. Наш птицеподобный с поднырами пошел на посадку.
В Новосибирске, сходя под холодный порывистый ветер, секущий снежинками, я вдруг заблудился: что сейчас – весна или осень? Сошел снег или еще не нашел, последний или первый под ветром? С полминуты искал, пока не вспомнил с одуревшей в полетной «атмосфере» головы: октябрь, последняя декада, предзимье. До зимы еще месяц, но в эту пору она обычно и напоминает о себе на оголенной земле особенно гулко и зло. Скатываясь с трапа, мы невольно вжимались в один круг, запахиваясь, обдергиваясь, прячась друг за друга, беспомощно выглядывая автобус, должный отвезти нас под стены аэровокзала. Автобус не торопился.
Зато в аэровокзале, всегда, при всех порядках и ценах забитом необъятными узлами беспроходно, нас поторопились вытолкать обратно. Только втиснулись – объявляют посадку. По опыту нетрудно было догадаться, что соберут и на добрый час забудут в «накопителе» – так называется загон перед выходом на летное поле, в них я провел в общей сложности, наверное, с полгода, подпирая стены, когда они доставались, или по-братски поталкиваясь плечами с подобными себе. Но пришлось идти, рейс наш окликали снова и снова. И в «накопителе» держать не стали, а сразу вывели под ветер. И только здесь забыли.
Ветер задувал еще злей, поднимая в воздух сухие листья, и еще сильней сек острым, как песок, мелким снегом. По полю несло мусор, над головами хлестало оборванным полотнищем старого призыва, нещадно трепало и нас. Прошло пятнадцать, двадцать минут, прошло полчаса. Молодежь, чтобы согреться, принялась поталкиваться, поругиваться, сначала между собой, между знакомыми, затем все чаще задевая и задирая всех подряд. Отсюда и «накопитель» казался раем. Мы, разночинные, какие-то домашние, штучные в сравнении с отборной вольницей, сбились в отдельную группу, совсем, как подтвердилось, невеликую.
А там, в главной группе, нашли занятие, превратившееся в открытие, которое увлекло всех и которое только в этой обстановке под ветром и снегом и могло родиться. Поставили под ноги маленькую, из-под «пепси» бутылку с узким горлышком и принялись целить в горлышко плевками. Ветер относил, разбрызгивал, набрасывал на одежду – увертывались, отскакивали, показывая ловкость, налетали друг на друга, азартно и односложно «делились впечатлениями»… С подветренной стороны образовался коридор из двух очередей, рвущихся к бутылке, были там и женщины, вскрикивающие пронзительно, по-заячьи. Неудачника в несколько рук выталкивали, он забегал в хвост очереди и начинал нажимать на передних. Быстро явилась организация, объявлены были правила, не упустившие, как оказалось, и вознаграждение.
Мы невольно вжали в себя головы, когда единым мощным духом раздался взрев. Кто-то поразил цель, в самое горлышко. Его чуть не растерзали от чувств – как в футболе или хоккее. Бутылка в суматохе брякнула, покатилась из кучи-малы – ее бросились спасать, обласкали, вытерли носовым платком, вычертили для нее круг, но игру продолжили лишь после того, как с каждого в пользу «снайпера» собрали по сто рублей. Это сейчас они с копеечку, а тогда кое-что значили. Удача подогрела: срочно опорожняли вторую бутылку, из-под водки, и организовывали вторую команду.
Должно быть, эта игра с тех пор распространилась, не знаю. Судя по тому, с каким восторгом она была встречена, она не могла быть забыта. Сейчас много новых забав, под вкус и страсть нынешнего человека, до которых прежняя фантазия не доходила. Возможно, для нее, для этой игры с бутылочкой, родившейся на моих глазах в новосибирском аэропорту, создан теперь особый центр, как Монте-Карло для рулетки, вычерчены и крашеным песочком посыпаны поля, как в гольфе, бутылочку из-под «пепси» заменила другая, специальной конструкции с радужным стеклом и золотым ободком, подведено электричество для ветродуя, правила усовершенствованы, ставки подняты, налажено производство продукта для красивого и обильного слюновыделения – и ездят на нее в часы досуга члены правительства. Все может быть. Разве не слышали мы о распространившейся по России среди молодоженов традиции – разбрасывать во время свадебного выезда по-царски деньги в людных местах, наслаждаясь давкой и криками. Я наблюдал, как перед старушкой, семенящей по скверу в поисках заброшенной бутылки, подкладывали крупную купюру, а когда старушка нагибалась за нею – бросались разоблачать и стыдить.
Много чему мы невольные очевидцы… Или это только и всего лишь мелочи жизни, не достойные внимания? – и через год, через два мы увидим новые сцены, куда более изобретательные, а эти забудутся. И, как в несмытых плевательницах, высохнут они корочкой, не достойной взгляда.
Мы проторчали на ветру не менее часа. А когда наконец бегом взбежали по трапу в непродуваемое чрево самолета и нас встретила музыка, мы обрадовались ей так, будто это сама удача посылает нам свои ласковые звуки. И когда неутомимое общество, согреваясь под бульканье опоражниваемых «снарядов» для новой игры, принялось подпевать – все нам было нипочем. Если даже продолжат игру на борту. Мы взлетали, вознося в небеса:
Бух-бах, тара-ра-ра-рах!
Тара-ра-ра-ра, тара-ра-рах!
…До Москвы оставалось четыре часа.
<1995>
В больнице
На третью неделю после выписки с операции Алексей Петрович Носов почувствовал себя совсем плохо. Шла кровь, лекарства не помогали, он спустил ее в унитаз, должно быть, с полведра. Поликлиники Носов избегал, не зная, примут ли его в старой, которой он пользовался несколько лет с тех пор, как переехал в Москву, ибо с переменой власти и отменой персональных пенсий поликлиника перешла на обслуживание нового начальства и на платное для богачей. А от старого смещенного начальства освобождалась. В том числе и от пенсионеров. Поэтому и тянул Алексей Петрович: в районную поликлинику он не успел перебраться, да и, признаться, боялся ее, а в прежней не хотел натолкнуться на неприятное: простите, вас у нас нет.
Он слабел, он чувствовал это. Поднимался с кровати и тут же искал стену, хватаясь за нее при неуверенном шаге, внизу живота появилась мозжащая, грызущая боль. Вслед за нею поднялась температура. И он сдался. Позвонил-таки в старую поликлинику урологу, с которым имел дело до операции, и неожиданно сердитым голосом сказал, что готов заплатить за прием, но идти ему больше некуда. «Ну что вы, – вздыхая, отвечал врач. – Конечно, приходите. Я и карточку вашу еще не сдал».
Идти было недалеко, но Алексей Петрович не отказался от помощи жены. Раз десять делали передышку, пока дотянули до богатого, с колоннами, старинного особняка поликлиники. Дальше, приняв от жены нагревшуюся от термоса сумку, он полез один. Не хотелось, чтобы при жене придирались к пропуску, не хотелось, чтобы она суетилась с объяснениями. Всякие объяснения теперь недействительны.
Потом, побывав у врача, он сидел в коридоре, на широком диване желтой кожи, поставив между ног кубастый китайский термос яркой расцветки, и пил, пил… Чтобы наполнить мочевой пузырь, выпить надо было много, не меньше двух литров. Чай заваривался с травками, был приятен и согревал не только теплом, но и запахами сухой степи. Он сидел как раз в углу коридора, расходящегося на две стороны, и видел оба его длинных конца, один из которых вел к парадной мраморной лестнице, застланной ковром, а другой уходил в пристрой, не менее роскошный, чем дворцовая часть. В коридоре не толклись у дверей, не шумели в очереди, здесь каждому назначался для приема определенный час. И пышные ковры, и высокие потолки с широко раздвинутыми стенами, и большие окна топили и разносили запахи болезней, оставляя лишь запах казенной чистоты.
Операцию Носову делали в госпитале ветеранов войны. Алексей Петрович выбрал его сам. Выбрал, собственно, не госпиталь, а хирурга, как делают многие. Хирург оказался могучего сложения, с огромными, как ковши, руками, из бывших шахтеров. Принял он Алексея Петровича спокойно и равнодушно, но, посмотрев рентгеновские снимки, воодушевился. «Картинки», как он выразился, ему понравились. Тяжело и радостно ступая вперед-назад в узком проходе заставленного и заваленного кабинета, он наливал в маленькие фарфоровые чашки кипяток для кофе, а в большие – коньяк из пузатой, под самовар, бутылки с краником… а Алексей Петрович косился на его «ковши» и пытался представить инструмент, который бы в них не хрупнул и не затерялся в едва сгибающихся тяжелых пальцах.
– Хоть голыми руками бери, да?
– Не шибко-то. Я как стеклышко была, хочешь знать…
– Ав пионерах ты, стеклышко, ходила?
– Конечно. В третьем классе принимали. Как бы я не ходила – всех принимали.
Вмешался еще один голос:
– В Мексике восьмилетняя родила…
Голос девицы достиг неподдельного целомудренного изумления:
– Зачем рожала-то?
– Во славу мексиканского отечества. Ей, как рекордистке, миллион зелененьких отвалили.
– Вре-ошь!
– Ты что – Америку не знаешь? Не там ты, стеклышко, родилась.
– Еще не все потеряно. Она махнет туда и двинет рекорд с другого конца. Родит в восемьдесят восемь лет. Сразу сорокалетнего.
…Всегда были такие разговоры, как без них?.. Но не было – чтобы на весь салон, демонстративно.
Я откинулся к окну, прислонившись к прохладной обшивке, и закрыл глаза. Размышлял: почему раньше высота, неестественное, висячее положение над пропастью в десять тысяч метров от земли всего с двумя металлическими крыльями почти на двести человек невольно смиряли страсти, невольное чувство опасности заставляло говорить глуше, притаенней, уходить в себя и почему этого нет среди теперешних молодых? Другие люди, другое поколение, сделавшее шаг вперед по сравнению с нами в новую атмосферу, физическую и психическую, для психики которых становится обычным, рядовым то, что в нас только еще зарождалось? Или от более простого чувственного сложения, от происходящего изменения, перерождения человека в какое-то новое существо, приготавливаемое для встречи с будущим? Я летал много, привык к высоте и вступаю на борт «воздушного корабля» без страха, отдаваясь на волю случая и Бога, но всегда, как только самолет отрывается от полосы, не могу я не ощущать свою вырванность из земли, как растение с оголившимися корнями, не могу я избавиться от чувства беспомощности, являющегося от неспособности пользоваться данными природой приспособлениями для жизни. Мои крылья там, внизу. Эти несколько часов перелета из пункта А в пункт Б я не живу, а сохраняю способность к жизни, хотя и могу занять эти часы тем же, что и в нормальных условиях, – чтением, обдумыванием, заметками «на полях», определенным итоживанием «земных» дел… Но все как-то подсеченно, без полного дыхания.
Эти – нет. Они чувствуют себя на высоте… как на высоте, для которой они созданы, они верят, что руки при необходимости способны вымахнуться в крылья, и тогда им удастся испытать еще более приятные мгновения, которых жаждет молодая душа.
Стюардессы вкатили в салон тележку и принялись быстро раскладывать перед нами тощие комковатые пакеты в хрустящей бумаге. Всего там и было: холодное вареное яйцо (без соли), две печенюшки, измазанные яблочным джемом, и пакетик с растворимым кофе. Одно утешение, что к кофе принесли кипяток, а не что-то такое, что напоминает собираемую с крыльев и едва подогретую наморозь. Но мы еще не знали, что этой малостью нам придется довольствоваться до Москвы, что Новосибирск, где происходит дозаправка, самолет заправит, а пассажирам откажет. Опять будет утешение: хорошо, что не наоборот. Наш брат, отдаваясь Аэрофлоту, только и делает, что радуется. Радуется, что досталось место, что удалось попасть в туалет, что на десять минут из шести часов в воздухе выключили музыкальный рев, какого не держат и в аду, что перед трапом в клящий мороз или лютую жару держали не до смертного, а только до сердечного удара, что чемодан вернули годным еще для одной поездки.
Счастливые были времена! И каждый из нас, выходя в порту назначения, считал себя заново родившимся. Оттого и грустно расставаться с Аэрофлотом, что навсегда теперь мы лишаемся этих воскресительных радостей приземления, чудесным образом умевших превращать неприятности полета в забавные приключения.
Но пока мы летим… летим, протыкая небо птицеподобной стрелой, в полом чреве которой гулко и дробно бьется жизнь.
Обед был так непритязателен, что на него хватило пяти минут и на десерт осталось удивление, вместе с которым можно было поразмышлять о неровностях дорог, избираемых отечественной историей. Но и после этого меня ожидало вознаграждение: стюардесса предложила второй пакетик с кофе и подлила кипятку. Закуска раздразнила аппетит, а кофе притупил. Очевидно, еще лучше он притупляется табаком. Зачадили, зачадили уже открыто, намешивая, нагущая «атмосферу», превращая ее в клубящуюся облачность, забивающую дыхание. Вспомнилась фраза Толстого: «…поощряя пищеварение курением сигареты». Для «поощрения» врубили еще музыку, способную дробить камни. Я прежде запасался затычками для ушей – не помогает, децибелы, как рентгеновские лучи, проникают сквозь любую оболочку. Но прежде до такого громоподобна и не доходило. Неужели все это способно оставаться внутри самолета и не выплескивается наружу – разорвет же! На этот раз не я, а женщина рядом со мной придержала стюардессу: нельзя ли потише? «Нельзя, требуют еще громче». – «А что – можно еще громче?» – удивился я. «Нельзя», – как будто понимающе вздохнула стюардесса.
Игра в карты продолжалась – все с тем же стуком и распаляющимися вскриками. Игроки достали вторую бутылку водки. Все было выброшено за борт – и «не курить», и «не распивать». И как быстро: три месяца назад еще поддерживалось, теперь – рухнуло окончательно. Крайний к проходу парень, джинсовый костюм на котором только подчеркивал порочные манеры, в такт музыке и игре, вскрикивая, выплясывал в кресле какой-то уж очень отчаянный танец. Сидевший за ним, с оббитыми коленками, терпел. Игра «поощрялась» матом. Отставник, мучающийся за жену, вмешался – его в три глотки тем же словом одернули; жена торопливо и испуганно принялась удерживать: не надо, не надо, успокойся. Он закрыл глаза.
Закрыл глаза вслед за ним и я. Должно быть, для соседей моих, возвращающихся в Ригу, вопрос решен: России нет. Искать пристанища по кровному родству негде. Там глухая нелюбовь, подчеркнутая, рассчитанная, там люди решительно разошлись на «своих» и «чужих» и «свои» выживают чужаков по племенному неприятию; здесь – разгул нравов, выплеснувшихся со дна. Там расистское, десятилетиями лелеемое «я хозяин», которому выпал случай показать себя во всей красе своего самолюбия; здесь «я хозяин» – от социального пиратства, захватившего дрейфующее государство, от «паханства», выпущенного на волю и получившего простор для утверждения своих законов, по которым людской мир состоит из своих, «воров» и предателей, «сук». Последние ничего другого не заслуживают, кроме презрения и смерти. И как там узнают друг друга кожей, так и здесь свой всегда отличит своего и вместе они сойдутся, чтобы явить право сильного.
Наступил праздник воли, грянуло неслыханное торжество всего, что прежде находилось под стражей нравственных правил, – и тотчас открыто объявило себя предводителем жизни таившееся в человеке дикобразье, тотчас выступило оно вперед и повелительно подало знак, до того понятный только в узком кругу… Как в заброшенной деревне: едва лишь оставят ее, сразу наползает колючий густой кустарник, заполняя улицы, сразу до крыш вымахивает крапива, лезет в разверстые окна и двери, тянется из-под полов, семенится в протрухлявевшем дереве амбаров и стаек. И ветры хлещут обезлюдевшие дворы особенно нещадно, и дожди секут без меры, и река, кормилица-поилица, к которой приникала деревня за милостью сотни лет, выгрызает, ако хищник, берег… Что деревни! – города, огромные, богатые, камнем нетленным глубоко в землю вбитые и высоко в небо вздетые, дивной красой изукрашенные, бывшие стольными в своих государствах, на весь мир гремевшие, – и города зарастают лесами, заносятся песками, превращаются в одну могучую развалину былого могущества, как только отступает человек… Прежде отступает от правил, от установлений, крепящих нравственный порядок жизни, а уж после – спасаясь от воспламенившегося окаянства сограждан. Так же погибали государства, цивилизации. Существует свой пошив любой человеческой организации, будь то национальное государство или межэтническое поселение где-нибудь в Сибири или на Балканах, создаваемых с нравственными целями. Как только целью пренебрегают, швы расходятся…
Россия есть… Как бы сказать соседям, не обидев их вмешательством, что есть она, да только опять на вздыбях, как на дыбе, с вывернутыми руками. С Петра повелось и все не кончится, что пуще иноземного нашествия терзают ее собственные великие преобразователи, борющиеся с отсталостью. Из какой-то выцеленной, вытружденной магическим труждением, сквозь времена хранимой утробы рождаются они, с каким-то необъяснимым везением подвигаются к цели, пролезая и сквозь игольное ушко… И вот снова в сиянии, в славе, приветствуемый народом как спаситель, объявивший, что он выведет многострадальный народ из пленения египетского, вернет его к обетованной жизни, освободит от физических и духовные теснений, – снова Он, и по его дерзкому призыву собираются люди со всех имен, больших и малых, российских владений на «подвиг спасения», оставляют труды и заботы, связанные с «проклятым прошлым», недосеянные поля, недостроенные дома и недокормленных детей… Жаждущими обновления тысячами тысяч сгруживаются на один край, а за другой, освободившийся, цепляют крепкими тросами и начинают накручивать на барабаны, отрывая от вековой сращенности. Тросы натягиваются, звенят, вспыхивают кисточками разорванных нитей – и взлетают в воздух с оборванными глыбами задираемого земного поля. Снова цепляют за него мощные тяги, закрепляют надежней и снова начинают накручивать еще яростней. Треск, стон, вздохи разрываемого тела, обнажившаяся плоть, открывшиеся гробы, спадающие с подножья отрываемой платформы, – и все же она ползет, поднимается, она все выше и выше… «Что вы делаете?! – кричат одни с нее. – Ведь мы же свалимся, убьемся, все настроенное сорвется и побьется в черепки!.. Как можно?! Прекратите!» – <Дд сгинет тьма египетская, в которой мы влачили жалкое существование, – отвечают другие, накручивая. – Да здравствует цивилизованная жизнь!»
Все выше и выше задирают – и вот уж на ребре Россия, с ободранными кровоточащими краями… Теперь развернуть и уронить, нагретым в испод. Валится, валится с нее нажить, личная и общественная, вся вековая обстава, сползают лесные рощи, выплескиваются реки, из шахт глубоких, с гор высоких летят камни. Что не удержалось, то и не нужно, обойдемся. Разбившиеся – разбились, оставшиеся в живых – затаились. Государство переворачивают – не щепки, а века истории прочь летят. И, развернув, примерившись, – хлоп на место, оборванным наверх. Все – возврата к старому нет, освободились. «Но как тут жить? – очнувшись, робко и недоуменно спрашивают наконец и потрудившиеся во имя оборотной России. – Тут же ничего не осталось… одна пустыня».
Преобразователь утомленно и презрительно улыбается. Он свое дело сделал. Подобно Моисею, он вырвал народ из-под власти фараоновой, но для этого пришлось вырвать его из родной земли и отправить в пустыню, пообещав после недолгих и нетрудных скитаний возвращение обратно, в преображенные и плодоносные Палестины. Надо было действовать решительно, дабы напомнить о пленении, зарастающем травой забвения, – и только он годился для таких действий, он был избран и наставлен, как заставить народ служить ему. Пустыня… По книге судеб и должна быть пустыня. Они, пошедшие за ним, еще не ведают, через какие стенания им придется пройти и какие фараоны будут искать их служения.
Перевернули – и все нижнее, потаенное, скрытое оказалось наверху. И наоборот. Надзиратели и камерники побратались, сделавшись учителями, и из ущелий человеческого духа вынесли свои нравы для общего пользования. Никакая революция, кем бы она ни затевалась, не может обойтись без того, чтобы ее не подхватили темные души и не превратили в свою собственность.
Что спрашивать с молодости, которую окунули в этот порядок, выдав его за воскрешающую купель, за благодатную ростепель после ледникового периода, под солнцем которой заиграла жизнь?! Не может не понимать молодость, что не ей гулять в тех райских кущах, что взращиваются торопливо с ее помощью среди попущений и разрушений, и что не она будет наследовать собственность, в которую, как строительный материал, вгоняется Россия. Но жажда сверкнуть, взыграть в жизни, урвать свой куш среди всеобщего растаскивания, превратиться во что угодно – в бабочку-однодневку, в жука навозного, в любого паразита с крыльями, но мелькнуть среди роскоши садов эдемовых, – жажда эта сильней, и ею лихорадочно стучит сердце, перегоняя слепую кровь. Что спрашивать с нее, если на глазах она перерождается в вид, не подлежащий спросу?
Я очнулся от «объяснений». Соседка спала, склонив голову на плечо мужа, и он, боясь потревожить ее, сидел неподвижно, уставив перед собой все так же объятые болью глаза. Картежники продолжали развлекаться, тасуя то карты, то пластмассовые стаканчики. Музыка взяла короткий перерыв. Мы подлетали, при снижении она снова нас развлечет. В салоне стоял тот плотный и ровный сильный гул, соревнующийся с шумом мотора, из которого никакому отдельному звуку не выплеснуться. Мы сидели в нем, как камешки на дне мощного круговорота, оно ударялось в нас, оглохших и одновременно звучащих, подхватывало наши голоса, наполнялось, накалялось и кружило еще гульней. Впереди меня молодой человек, за полтора часа ни разу не напомнивший о себе неприятно, продолжал читать учебник по маркетингу. Странно, однако же, почему мне неинтересно знать, что такое маркетинг. Что-то из основ новой жизни… Не мое, меня от этой жизни уже отбило. Правила специальных движений для достижения успеха, для которого я не гожусь…
Да, включили, загрохотало с подвывами опять. Наш птицеподобный с поднырами пошел на посадку.
В Новосибирске, сходя под холодный порывистый ветер, секущий снежинками, я вдруг заблудился: что сейчас – весна или осень? Сошел снег или еще не нашел, последний или первый под ветром? С полминуты искал, пока не вспомнил с одуревшей в полетной «атмосфере» головы: октябрь, последняя декада, предзимье. До зимы еще месяц, но в эту пору она обычно и напоминает о себе на оголенной земле особенно гулко и зло. Скатываясь с трапа, мы невольно вжимались в один круг, запахиваясь, обдергиваясь, прячась друг за друга, беспомощно выглядывая автобус, должный отвезти нас под стены аэровокзала. Автобус не торопился.
Зато в аэровокзале, всегда, при всех порядках и ценах забитом необъятными узлами беспроходно, нас поторопились вытолкать обратно. Только втиснулись – объявляют посадку. По опыту нетрудно было догадаться, что соберут и на добрый час забудут в «накопителе» – так называется загон перед выходом на летное поле, в них я провел в общей сложности, наверное, с полгода, подпирая стены, когда они доставались, или по-братски поталкиваясь плечами с подобными себе. Но пришлось идти, рейс наш окликали снова и снова. И в «накопителе» держать не стали, а сразу вывели под ветер. И только здесь забыли.
Ветер задувал еще злей, поднимая в воздух сухие листья, и еще сильней сек острым, как песок, мелким снегом. По полю несло мусор, над головами хлестало оборванным полотнищем старого призыва, нещадно трепало и нас. Прошло пятнадцать, двадцать минут, прошло полчаса. Молодежь, чтобы согреться, принялась поталкиваться, поругиваться, сначала между собой, между знакомыми, затем все чаще задевая и задирая всех подряд. Отсюда и «накопитель» казался раем. Мы, разночинные, какие-то домашние, штучные в сравнении с отборной вольницей, сбились в отдельную группу, совсем, как подтвердилось, невеликую.
А там, в главной группе, нашли занятие, превратившееся в открытие, которое увлекло всех и которое только в этой обстановке под ветром и снегом и могло родиться. Поставили под ноги маленькую, из-под «пепси» бутылку с узким горлышком и принялись целить в горлышко плевками. Ветер относил, разбрызгивал, набрасывал на одежду – увертывались, отскакивали, показывая ловкость, налетали друг на друга, азартно и односложно «делились впечатлениями»… С подветренной стороны образовался коридор из двух очередей, рвущихся к бутылке, были там и женщины, вскрикивающие пронзительно, по-заячьи. Неудачника в несколько рук выталкивали, он забегал в хвост очереди и начинал нажимать на передних. Быстро явилась организация, объявлены были правила, не упустившие, как оказалось, и вознаграждение.
Мы невольно вжали в себя головы, когда единым мощным духом раздался взрев. Кто-то поразил цель, в самое горлышко. Его чуть не растерзали от чувств – как в футболе или хоккее. Бутылка в суматохе брякнула, покатилась из кучи-малы – ее бросились спасать, обласкали, вытерли носовым платком, вычертили для нее круг, но игру продолжили лишь после того, как с каждого в пользу «снайпера» собрали по сто рублей. Это сейчас они с копеечку, а тогда кое-что значили. Удача подогрела: срочно опорожняли вторую бутылку, из-под водки, и организовывали вторую команду.
Должно быть, эта игра с тех пор распространилась, не знаю. Судя по тому, с каким восторгом она была встречена, она не могла быть забыта. Сейчас много новых забав, под вкус и страсть нынешнего человека, до которых прежняя фантазия не доходила. Возможно, для нее, для этой игры с бутылочкой, родившейся на моих глазах в новосибирском аэропорту, создан теперь особый центр, как Монте-Карло для рулетки, вычерчены и крашеным песочком посыпаны поля, как в гольфе, бутылочку из-под «пепси» заменила другая, специальной конструкции с радужным стеклом и золотым ободком, подведено электричество для ветродуя, правила усовершенствованы, ставки подняты, налажено производство продукта для красивого и обильного слюновыделения – и ездят на нее в часы досуга члены правительства. Все может быть. Разве не слышали мы о распространившейся по России среди молодоженов традиции – разбрасывать во время свадебного выезда по-царски деньги в людных местах, наслаждаясь давкой и криками. Я наблюдал, как перед старушкой, семенящей по скверу в поисках заброшенной бутылки, подкладывали крупную купюру, а когда старушка нагибалась за нею – бросались разоблачать и стыдить.
Много чему мы невольные очевидцы… Или это только и всего лишь мелочи жизни, не достойные внимания? – и через год, через два мы увидим новые сцены, куда более изобретательные, а эти забудутся. И, как в несмытых плевательницах, высохнут они корочкой, не достойной взгляда.
Мы проторчали на ветру не менее часа. А когда наконец бегом взбежали по трапу в непродуваемое чрево самолета и нас встретила музыка, мы обрадовались ей так, будто это сама удача посылает нам свои ласковые звуки. И когда неутомимое общество, согреваясь под бульканье опоражниваемых «снарядов» для новой игры, принялось подпевать – все нам было нипочем. Если даже продолжат игру на борту. Мы взлетали, вознося в небеса:
Бух-бах, тара-ра-ра-рах!
Тара-ра-ра-ра, тара-ра-рах!
…До Москвы оставалось четыре часа.
<1995>
В больнице
На третью неделю после выписки с операции Алексей Петрович Носов почувствовал себя совсем плохо. Шла кровь, лекарства не помогали, он спустил ее в унитаз, должно быть, с полведра. Поликлиники Носов избегал, не зная, примут ли его в старой, которой он пользовался несколько лет с тех пор, как переехал в Москву, ибо с переменой власти и отменой персональных пенсий поликлиника перешла на обслуживание нового начальства и на платное для богачей. А от старого смещенного начальства освобождалась. В том числе и от пенсионеров. Поэтому и тянул Алексей Петрович: в районную поликлинику он не успел перебраться, да и, признаться, боялся ее, а в прежней не хотел натолкнуться на неприятное: простите, вас у нас нет.
Он слабел, он чувствовал это. Поднимался с кровати и тут же искал стену, хватаясь за нее при неуверенном шаге, внизу живота появилась мозжащая, грызущая боль. Вслед за нею поднялась температура. И он сдался. Позвонил-таки в старую поликлинику урологу, с которым имел дело до операции, и неожиданно сердитым голосом сказал, что готов заплатить за прием, но идти ему больше некуда. «Ну что вы, – вздыхая, отвечал врач. – Конечно, приходите. Я и карточку вашу еще не сдал».
Идти было недалеко, но Алексей Петрович не отказался от помощи жены. Раз десять делали передышку, пока дотянули до богатого, с колоннами, старинного особняка поликлиники. Дальше, приняв от жены нагревшуюся от термоса сумку, он полез один. Не хотелось, чтобы при жене придирались к пропуску, не хотелось, чтобы она суетилась с объяснениями. Всякие объяснения теперь недействительны.
Потом, побывав у врача, он сидел в коридоре, на широком диване желтой кожи, поставив между ног кубастый китайский термос яркой расцветки, и пил, пил… Чтобы наполнить мочевой пузырь, выпить надо было много, не меньше двух литров. Чай заваривался с травками, был приятен и согревал не только теплом, но и запахами сухой степи. Он сидел как раз в углу коридора, расходящегося на две стороны, и видел оба его длинных конца, один из которых вел к парадной мраморной лестнице, застланной ковром, а другой уходил в пристрой, не менее роскошный, чем дворцовая часть. В коридоре не толклись у дверей, не шумели в очереди, здесь каждому назначался для приема определенный час. И пышные ковры, и высокие потолки с широко раздвинутыми стенами, и большие окна топили и разносили запахи болезней, оставляя лишь запах казенной чистоты.
Операцию Носову делали в госпитале ветеранов войны. Алексей Петрович выбрал его сам. Выбрал, собственно, не госпиталь, а хирурга, как делают многие. Хирург оказался могучего сложения, с огромными, как ковши, руками, из бывших шахтеров. Принял он Алексея Петровича спокойно и равнодушно, но, посмотрев рентгеновские снимки, воодушевился. «Картинки», как он выразился, ему понравились. Тяжело и радостно ступая вперед-назад в узком проходе заставленного и заваленного кабинета, он наливал в маленькие фарфоровые чашки кипяток для кофе, а в большие – коньяк из пузатой, под самовар, бутылки с краником… а Алексей Петрович косился на его «ковши» и пытался представить инструмент, который бы в них не хрупнул и не затерялся в едва сгибающихся тяжелых пальцах.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: