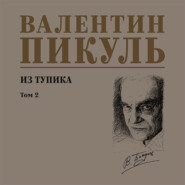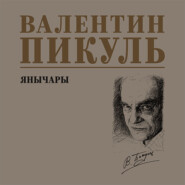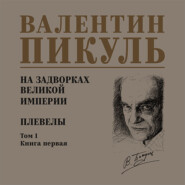По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
1954
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нашу, поморскую.
– Алешка, жги! Рррасце-е-елую! – крикнул боцман.
– Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть, – сказал Найденов и вышел на середину круга. – А ну, гармонист, кто из нас быстрее: ты пальцами или я ногами?..
Он постоял немного, точно загрустив о чем-то, потом не спеша, словно нехотя, стал перебирать ногами и, прищелкивая пальцами, зачастил речитативом:
А гости позваны,
Постели постланы,
А у меня, младой,
Да муж на промысле…
Шаг сделался чаще, движения быстрее, и вдруг, подавшись вперед, он с гиком пролетел по кругу, почти не касаясь ногами палубы, встряхивая смоляным чубом.
– Цыган, – убежденно сказал Лобадин, – как есть цыган…
Не выдержал боцман и, заплетая скрюченными ревматизмом ногами, пошел вприсядку:
О тоске своей забуду,
Танцевать на пузе буду.
Пузо лопнет – наплевать,
Под бушлатом не видать!..
Его оттащили обратно, посадили за стол.
– Пей, старина, рассказывай о своей Поленьке, только не мешай…
Пеклеванный смотрел на Варю, видел, как загораются азартом ее глаза, и не удивился, когда она встала, присматриваясь к ритму бешеной поморской пляски, – Артема самого подмывало веселье, и он невольно завидовал той суровой простоте в обращении с командой, какой обладал Рябинин.
Ах, все бы танцевала, да ходить уж мочи нет, —
томно и шутливо пропела Варенька, пройдясь по кругу легко, как пава.
Но гармонист уже не выдержал:
– Ой, дайте отдохну! Не успеть моим пальцам за ногами вашими…
– Вальс! Тогда – вальс! – объявила Варенька, хлопнув в ладоши.
Мордвинов, почти весь вечер одиноко простоявший возле радиолы, поставил пластинку. Варенька подхватила его, потащила за собой.
– Ну же! – приказала она. – Вальс!..
– Да не умею я, – взмолился он и сразу же наступил ей на туфли своим здоровенным яловым сапогом. – Видите – не умею…
– А ну тебя, бегемот несчастный. – И Варенька, бросив его, перепорхнула к лейтенанту Пеклеванному. – Вы-то, надеюсь, умеете?
Все как-то невольно расступились, столы отодвинули к рундукам, и пара молодых, оба лейтенанты, взволнованные этим танцем, – танцем, когда каблуки стучат по заклепкам, когда нагибаешься, чтобы не удариться о трубу паропровода, – они танцевали, пока не оборвалась музыка. А музыка, смешно и жалобно взвизгнув, оборвалась на самой середине, и все повернулись в сторону Мордвинова.
– Ну, чего смотрите? – сказал матрос. – Шипит ведь… Надо же иголку сменить!
И Варенька, разрумянившаяся, глубоко дыша, села за стол рядом с Пеклеванным:
– Ух, давно так не плясала! Хоть иллюминаторы бы открыть – душно очень…
– Иллюминаторы открыть нельзя, – ответил Артем, никогда не забывая о том, что он старший офицер. – А вот наверх подняться – можно… Вы согласны?
– Конечно! Мне так душно, что я бы сейчас, кажется, бросилась за борт в ледяную воду…
Артем, рассмеявшись, помог ей преодолеть крутизну трапа, и, провожаемые косым взглядом Мордвинова, они поднялись на верхнюю палубу. Обхватив поручни и откинув назад голову, Варенька сказала:
– Как хорошо!.. Мне так хорошо сегодня, что даже страшно делается. А чего страшно – не знаю…
Медленным взглядом она окинула темное небо, зубцы сопок, подернутую рябью чернильную воду залива и вдруг посмотрела на Пеклеванного так пристально, точно увидела его впервые.
– «Абрек» торпедирован, – неожиданно сказала она глухим, сразу изменившимся голосом. – Вот, наверное, потому и страшно мне… А вам?
– Нет, – коротко ответил Артем. – Война…
– Вы какой-то… – и не договорила.
– Жестокий? – спросил Артем, усмехнувшись.
– Да.
– Это неправда. Я не жестокий.
Он положил руки на леера, и они прогнулись книзу. С кормы раздался чей-то голос:
– Эй, кто там леера трогает?.. Боцманюга опять ругаться будет!..
– Вы сильный, – сказала Варенька. – Рядом с вами я всегда кажусь себе маленькой. Вон, смотрите, какие у вас большие руки.
– Да, – согласился Артем, – руки у меня сильные. Одна женщина во Владивостоке говорила, что если попасть в мои руки, то в них, вероятно, будет уютно. Она шутила, конечно…
– А может, и не шутила, – сказала Варенька.
И, улыбнувшись каким-то своим мыслям, она спустилась в кубрик. А лейтенант, подняв к лицу свои потрескавшиеся от ветра и воды ладони, неожиданно для себя подумал: «Неужели ей может быть уютно в этих руках?..»
Воевать не хочется
Кайса напрасно бравировала своим титулом – для семьи она уже давно была отрезанным ломтем. Имя ее в доме Суттиненов если и произносилось когда-либо, то только шепотом, чтобы – не дай бог! – не услышал его «лесной барон». Причиной такой отцовской ненависти служило неудачное замужество женщины. Причем виноват в этом замужестве был сам барон.
Еще перед «зимней кампанией» он познакомился с одним шведом – владельцем нескольких живописных водопадов. Иностранные туристы валом валили смотреть эти высокие белогривые падуны, шум которых был слышен на пять миль в округе. Старый швед считался богатым человеком, и Суттинен решил сосватать с ним свою дочь.
Кайса с самого начала восстала против этого брака, но в своей отцовской власти барон был неумолим. Состоялось обручение двадцатилетней девушки с богатым владельцем водопадов, который был старше своей невесты почти в три раза. Тогда же к фамилии Кайсы и прибавилась эта приставка – по мужу – Хууванха.
Но вскоре выяснилось, что водопады не обогатили старого шведа, – барон, мечтавший соединить два капитала в один, просто побрезговал мешать свои миллионы с жалкими медяками, набранными у туристов. Закоренелый таваст, упрямство которых вошло в поговорку, Суттинен-отец не хотел признать своей ошибки и всю вину свалил на голову своей дочери. Когда же барон узнал, что Кайса бросила старого мужа, он лишил ее наследства, переписав завещание на одного лишь сына, тогда еще не лейтенанта, а вянрикки, Рикко Суттинена.