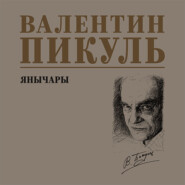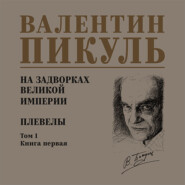По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слово и дело. Книга вторая. Мои любезные конфиденты. Том 4
Автор
Серия
Год написания книги
1975
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А мне нравится, как написал Волынский…
Анна Иоанновна сникла. Она подкинула скипетр в руке, как дубину неловкую, и, поддернув края золотистой робы, величаво вернулась под тень балдахина – к престолу. Снова расселась там…
Волынский глянул на Бирона, и тот ему подмигнул, как конфидент верный. Ничего страшного. Шведский флот сейчас страшнее. Ибо, как докладывал в Сенате Соймонов, за годы последние русский флот изволил высочайше сгнить на приколе в гаванях…
С одной страны – гром,
С другой страны – гром,
Смутно в воздухе,
Ужасно в ухе!
Глава четвертая
Временами все спокойно. Но тишине верить нельзя. Не унялась жажда крови в царице – просто она осматривается по сторонам и… слушает! Анна Иоанновна всегда так поступала: казнит кого-либо, а потом утихомирится, выжидая ропота народного. Убедится, что бунта нет, и тогда довершает мщение. В казнях она следовала примеру Иоанна Грозного, который одного человека никогда не губил, а губил семьи. Но у семьи родичи были – значит, и весь род надо уничтожить. Ежели кто пожалел убитых, таких – на кол! Сородичей на кол посаженного повесить. Близких к повешенному сжечь. И оставалось поле ровное… Анна Иоанновна кусты родовые тоже с корнем старалась выдергивать из почвы. Месть императрицы была замедленной, будто игра кошки с мышкой; она была осторожна, но неотвратима, как рок…
В застеночном «мешке» обители Соловецкой уже восемь лет сидел дипломат князь Василий Лукич Долгорукий. Борода седая до полу выросла, в ней вши шевелятся, а под рубахой акриды-сороконожки бегают. Редко во мраке отворится люк, куда пищу для него спустят на веревке… Много лет промолчал Лукич, задубел в горе и долготерпении. Ждал он (годами ждал), когда позовет его Нафанаил.
Прикидывал во мраке: какой год нонеча? Кажись, весна.
Дух-то какой доходит от моря тающего. Коли глотнешь из люка, воздух ножиком острым в ноздри впивается. Нет, не зовет его старец… Неужто помер уже Нафанаил?
Лязгнули запоры над ним – велели Лукичу вылезать. Монахи подхватили его из ямы, повели узника коридорами длинными в келью, где благодатно было. Стояла посередь чаша с водою чистою, в ней ветка почками распускалась. А на подоконнике голуби зерно клевали. Старец Нафанаил лежал, высоко и бестрепетно, на ложе жестком. Рукою указал Лукичу, чтобы сел ближе. Сказал, что умирает.
– Стены эти, – говорил Нафанаил, – помнят и ватаги Стеньки Разина, когда они тут от царя упрятывались. Ой, много тут людей схоронилось, от мира дурного отрешась навеки… Обитель Соловецкая есмь Ватикан российский, и немало мы соглядатаев и слухачей на Руси имеем, каждый вздох слышим… стоны собираем, как жемчуг, ведем счет летописный горестям и радостям.
Лукич смотрел, как голуби целуются, как прет из ветки сила сочной, молодой жизни, и… плакал.
– Плачь, князь, плачь горше. Родичей твоих в Березове арестовали, всему роду вашему погром учиняется жестокий.
– О проклятый Бирен! – вскричал Долгорукий.
На что Нафанаил отвечал ему в спокойствии мудрейшем:
– Бирона ты излишне не осуждай. Герцог виновен не более собаки, коя к волчьей стае пристала. Средь злодейств самодержавных злодейства Бирона даже не разглядеть… Но и вы! – сказал старец, на локтях с ложа поднимаясь. – Вы, бояре подлые, более всех повинны в мучениях народа. Не будь вашей грызни по смерти Петра Великого, и вся бы Русь иной дорогой пошла…
Долгорукий, сгорбясь, поднялся:
– Не такого свидания ожидал я, старче Нафанаил… К чему ты упрекал меня? Благослови хоть…
Черносхимник слабо перекрестил его:
– Благословляю тя на муки!..
Лукича солдаты заковали в цепи, и ворота обители распахнулись. Лед в гавани Благополучия уже сошел, зеленел свежий мох в камнях стен монастырских, солнце ослепляло узника, надрывно кричали чайки. Лукича спустили в баркас под парусом, поплыли в синь моря.
– Люди добрые, скажите, куда везете меня?
– Молчи, дедушка. Не вынуждай присягу нарушить…
Страшно было. Но иногда сладостно замирало сердце: может, простила его Анна Иоанновна? Ведь была же она в объятиях его… Бабье сердце должно бы помнить!
…
Тихо было. Но в тишине этой большие гады шевелились…
Тоску душевную глушила императрица в вине, которое пила лишь в кругу персон близких, ею проверенных. И средь них первым являлся обер-шталмейстер князь Александр Куракин; человек ума острого, всю Европу объехавший, многие языки знавший, он в пьянстве беспробудном был ужасен, задирист, вязался в ссоры разные и безобразничал всяко.
– Брось пить, Сашка! – говорила ему императрица. – Отставок не бывает для дворян, а то бы я тебя отставила от службы.
– Не я пью, – отвечал Куракин, – то Волынский пьет.
– Как это понимать?
– Он порчу на меня насылает. Заколдован я врагом моим. И не хочу пить, а сила нечистая опять меня в пьянство вгоняет…
– О чем ты болтаешь, Сашка?
– Голову надо Волынскому за колдовство отрубить!
В защиту кабинет-министра вступался сам Бирон:
– Ферфлюхтер дум! хундфотт! шпицбубе! – осыпал он бранью Куракина. – Кому еще из русских могу я довериться, как Волынскому? Тебе, что ли, из блевотины вставшему и в блевотину ложащемуся?
Но князь Куракин не унимался, травил Волынского при дворе. Тредиаковский недавно сатиру написал на вельможу самохвала, и Куракин читал ее всюду:
…за все пред людьми, где было их довольно,
Дел славою своих он похвалялся больно,
И так уж говорил, что не нашлось ему
Подобного во всем, ни ровни по всему…
На кого из вельмож написал поэт сатиру – не ясно, но Куракин трезвонил налево и направо:
– Это же про него – про Волынского нашего…
Волынский появлялся при дворе, а шуты ему кричали:
– Волынка идет! Дурная волынка всю музыку портит…
И наблюдательный Ванька Балакирев сделал вывод:
– Кому-то музыка волынки не по нраву пришлась.
Бирон, сочувствуя министру, спросил его однажды:
– Друг мой Волынский, не знаешь ли вины за собой?
– Какие вины? Ныне я не греховен.
– Однажды я тебя от плахи спас. Второй раз не спасти.