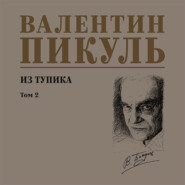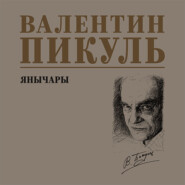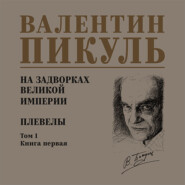По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде…
Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой:
– Дрянь! Мусор! Выбрось!
Солнечный луч замер на лице юной хозяйки.
Брюллов засопел, будто его обидели.
– Карл Палыч, – снова заробела женщина, – уж вы так на меня севодни смотрите. Право, и неудобно даже… Ведь неприбрана я!
Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул:
– Ванька! Палитру волоки. Ставь холст.
Дурнов одеревенело застыл – в растерянности:
– Зачем?
– Тебя не спрашивают зачем. Ставь, коли велю.
– Мигом… есть холсток. Для вас… мигом!
Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони.
– Так и сидите, – сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом…
Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Никитской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брюллова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека?
– Господи, – переживала, вертясь на стуле, Елизавета Ивановна, – да некрасивая я севодни. Дозвольте хоть приодеться мне!
– Синьора, уже некогда, – отвечал ей Брюллов,
– Лиза, – вступился муж наставительным тоном, – ты гению не перечь. Карл Палыч без тебя лучше все знает…
Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха.
– Коли меня не уважаешь, – бубнил Дурнов, – так хоть гения уважь. Или не слыхала, что такое вдохновение?
– Слыхала… застращал ты меня словом этим.
– Помолчи хоть ты, Ванька, – строго потребовал Брюллов.
В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца.
– Вообще-то… дрянь! – неожиданно произнес маэстро.
– Что, что? – спросил хозяин. – Какая дрянь?
– Дрянь, говорю… вдохновение – дрянь! Порыв к работе важнее. На одном вдохновении далеко не ускачешь. Гений – это лишь талант, который работает, работает… пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо – тогда получится.
Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный портрет с бар иногда по 10 000 рублей, да еще кривится при этом. Ивану Трофимовичу стало не по себе…
– Между прочим, – пожаловался в потолок, – нуждишка у нас, с хлеба на квас перебиваемся…
Брюллов пасмурно и недовольно глянул на него:
– И я, брат, нуждаюсь… сильно задолжал на Москве!
Величавым жестом он взялся за палитру.
Дурнов предложил ему уголек для разметки холста:
– Уголек-то… держите. Вот он.
Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ивановну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул взамен кусок мелу:
– Может, мелком фигуру очертите, как и водится?
– Зачем? – спросил Брюллов отвлеченно.
– Все живописцы так-то мудро поступают.
– А я, прости, не мудрец, – отвечал Брюллов.
И вдруг… о ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука выбросила кисть вперед – и в самом центре девственного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка.
Никто ничего не понимал, в дверях зашушукались.
– Эй, вы! Потише там… – крикнул хозяин.
Брюллов утомленно, словно проделан адский труд, откинулся на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красивой точкой, возникшей посреди холста по его желанию.
– А что же это? – осторожно спросил Дурнов.
– Губы.
– Впервые вижу.
– Дурак! Или губ никогда не видел?
– Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать?
– Я так делаю. Могу и с уха начать… Чем плохо?
Елизавета Ивановна чуть привстала со стула:
– Можно и мне посмотреть?