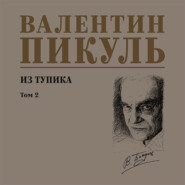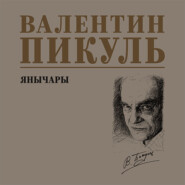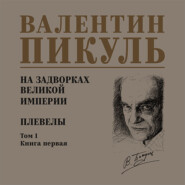По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Океанский патруль. Книга вторая. Ветер с океана. Том 4
Автор
Серия
Год написания книги
1954
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он неожиданно сел перед ней на стол, свесив ноги в ярко начищенных сапогах, взял ее за подбородок.
– Это еще что! – возмутилась она.
Но он не выпустил ее подбородка из своих жестких пальцев и, помолчав, строго заметил:
– Я люблю, чтобы женщина, когда я с ней разговариваю, смотрела мне прямо в глаза!
Она посмотрела ему в глаза и подавленно сказала:
– Хорошо, я соединю вас с Петсамо… Дайте, пожалуйста, еще одну сигарету…
Заработал аппарат.
– Швеция на проводе, – сказала она.
– Отлично…
– Корпиломболо… Корпиломболо, – раздалось в наушниках. – Корпиломболо слушает…
Женщина назвала пароль и потребовала:
– Соедините с Петсамо… Соедините с Петсамо…
– Встаньте, – сказал фон Герделер и, заняв ее место, надел наушники. – Алло!.. Петсамо?.. У аппарата чрезвычайный эмиссар в Лапландии оберст Герделер… Кто отвечает?.. Принимайте…
Он стал докладывать о положении в Лапландии, и одна его рука как бы невзначай легла на спину женщины.
Телеграфистка дернулась в сторону, тогда оберст просто обнял ее – цепко и властно, не переставая повторять в трубку:
– Слушаюсь… будет исполнено… я обещаю…
Когда разговор был закончен, фон Герделер не ушел. Как-то странно посмотрев в темный угол, словно там скрывался кто-то невидимый, он уверенно произнес:
– Запомните мои слова: скоро я буду генералом!
– Меня это не касается… Пустите меня! С Петсамо вы переговорили, что вам еще надо?
Оберст вскинул голову, его упрямый квадратный подбородок слегка округлился в непонятной усмешке, но глаза из-под каски смотрели по-прежнему жестко и ясно.
– Я, – не сразу отозвался он, – тем и отличаюсь от других офицеров, что всегда знаю, чего мне надобно сейчас, завтра и чего захочу через три года!..
Он ушел от телеграфистки только на рассвете. Фру Андерсон, кутаясь в шубку, вышла на крыльцо. Глаза ее были припухшие, лицо помято.
– Хорст, – жалобно спросила она, – ты еще придешь ко мне?
Фон Герделер ничего не ответил. Ему подвели коня. Он легко забросил в седло свое сильное мускулистое тело. Вдали синел лес, вода в реке казалась зеленой.
– Мне тебя не ждать, Хорст?
Инструктор затянул ремешок каски потуже, сказал:
– Я еще не раз буду звонить в Петсамо…
Воздух рассекла плеть. Лошадь, вскинувшись, перемахнула через изгородь, и всадники помчались по скользкой дороге.
Лейтенант Мордвинов
На курсах лейтенантов морской пехоты командование ценило Мордвинова, но в «кубрике» его почему-то недолюбливали. Курсантам не нравился этот угрюмый, замкнутый в себе ефрейтор: не пошутит, не улыбнется, спросишь его что-нибудь – только буркнет в ответ. Его побаивались немного, и даже старшины рот относились к Мордвинову с особым уважением. Объяснить – почему так, старшины не могли, но, если их спрашивали об этом, они глубокомысленно намекали:
– Мы-то уж знаем, что он такой… Ну, как бы это сказать?.. В общем, не такой, как все!..
Это еще больше настораживало курсантов к «не такому, как все» человеку, и однажды подсел к Мордвинову один весельчак, сказал при всех:
– Ты чего травишь, что на «Аскольде» служил?
– Я разве вру?
– Конечно.
– Отшвартуйся, – сказал Мордвинов.
– Ишь ты, вычитал словечко, – съязвил курсант, – а сам, наверное, и море-то с берега только видел!
– Я тебе сказал: отползи.
– Да отползу, только не трави больше, что на флоте служил. Разве с кораблей ребята такие, как ты, бывают?..
Мордвинов оправдываться не стал, но задумался: почему все так? В экипаже «Аскольда» его не то чтобы любили особенно, просто относились к нему не хуже, чем к Платову или Русланову. Считали, что он скуповат немного, может нагрубить, но разве же он сделал что-либо плохое кому-нибудь? И не только на «Аскольде» – здесь тоже. «Правда, они боятся моих ночных дежурств, когда я требую от всех образцового порядка в помещении, но ведь на то и дисциплина! Прежде чем приказывать, научись подчиняться – в этом залог воинской службы. Ну и, спрашивается, какого черта этот парень придирается ко мне?..
Хотя – нет: он, пожалуй, прав, и вот почему: я стал уже не такой, каким был раньше, во мне что-то изменилось. В лучшую или в худшую сторону – я еще не могу понять. Во всяком случае, изменилось, и очень сильно. Люблю ли я вообще людей? Да, я люблю их, и даже этого парня люблю – он всегда веселый, хорошо шутит, легко жить, наверное, таким людям. А вот мне… Как странно все: Рябинин взял меня из детдома, поставил на работу, я жил не то чтобы прекрасно, но и не плохо, так же, как все; мне иногда было очень тяжело, холодно, я уставал, от меня пахло рыбьим жиром, и это была счастливая пора. А вот теперь… Сколько раз давал себе слово – не думать о ней, забыть лицо, голос, походку, вычеркнуть ее из жизни, будто и не было ничего. Да и в самом деле, если и было – так у кого угодно, только не у меня. Легко сказать – забудь, а вот ты попробуй – забудь. Отсюда, наверное, и все остальное…»
– Эй! – позвал он курсанта, который только что отошел от него. – Поди-ка сюда.
– Ну, чего тебе?
– Сядь. Ты где служил?
– Уж нет того корабля, на котором я служил.
– Погиб?
– На мине. Ночью.
– Значит, тонул ты?
– Сам понимаешь…
– Вот и я, – сказал Мордвинов, – тонул. Плохое, брат, это дело, скажу я тебе, тонуть-то!
– Это еще что! – возмутилась она.
Но он не выпустил ее подбородка из своих жестких пальцев и, помолчав, строго заметил:
– Я люблю, чтобы женщина, когда я с ней разговариваю, смотрела мне прямо в глаза!
Она посмотрела ему в глаза и подавленно сказала:
– Хорошо, я соединю вас с Петсамо… Дайте, пожалуйста, еще одну сигарету…
Заработал аппарат.
– Швеция на проводе, – сказала она.
– Отлично…
– Корпиломболо… Корпиломболо, – раздалось в наушниках. – Корпиломболо слушает…
Женщина назвала пароль и потребовала:
– Соедините с Петсамо… Соедините с Петсамо…
– Встаньте, – сказал фон Герделер и, заняв ее место, надел наушники. – Алло!.. Петсамо?.. У аппарата чрезвычайный эмиссар в Лапландии оберст Герделер… Кто отвечает?.. Принимайте…
Он стал докладывать о положении в Лапландии, и одна его рука как бы невзначай легла на спину женщины.
Телеграфистка дернулась в сторону, тогда оберст просто обнял ее – цепко и властно, не переставая повторять в трубку:
– Слушаюсь… будет исполнено… я обещаю…
Когда разговор был закончен, фон Герделер не ушел. Как-то странно посмотрев в темный угол, словно там скрывался кто-то невидимый, он уверенно произнес:
– Запомните мои слова: скоро я буду генералом!
– Меня это не касается… Пустите меня! С Петсамо вы переговорили, что вам еще надо?
Оберст вскинул голову, его упрямый квадратный подбородок слегка округлился в непонятной усмешке, но глаза из-под каски смотрели по-прежнему жестко и ясно.
– Я, – не сразу отозвался он, – тем и отличаюсь от других офицеров, что всегда знаю, чего мне надобно сейчас, завтра и чего захочу через три года!..
Он ушел от телеграфистки только на рассвете. Фру Андерсон, кутаясь в шубку, вышла на крыльцо. Глаза ее были припухшие, лицо помято.
– Хорст, – жалобно спросила она, – ты еще придешь ко мне?
Фон Герделер ничего не ответил. Ему подвели коня. Он легко забросил в седло свое сильное мускулистое тело. Вдали синел лес, вода в реке казалась зеленой.
– Мне тебя не ждать, Хорст?
Инструктор затянул ремешок каски потуже, сказал:
– Я еще не раз буду звонить в Петсамо…
Воздух рассекла плеть. Лошадь, вскинувшись, перемахнула через изгородь, и всадники помчались по скользкой дороге.
Лейтенант Мордвинов
На курсах лейтенантов морской пехоты командование ценило Мордвинова, но в «кубрике» его почему-то недолюбливали. Курсантам не нравился этот угрюмый, замкнутый в себе ефрейтор: не пошутит, не улыбнется, спросишь его что-нибудь – только буркнет в ответ. Его побаивались немного, и даже старшины рот относились к Мордвинову с особым уважением. Объяснить – почему так, старшины не могли, но, если их спрашивали об этом, они глубокомысленно намекали:
– Мы-то уж знаем, что он такой… Ну, как бы это сказать?.. В общем, не такой, как все!..
Это еще больше настораживало курсантов к «не такому, как все» человеку, и однажды подсел к Мордвинову один весельчак, сказал при всех:
– Ты чего травишь, что на «Аскольде» служил?
– Я разве вру?
– Конечно.
– Отшвартуйся, – сказал Мордвинов.
– Ишь ты, вычитал словечко, – съязвил курсант, – а сам, наверное, и море-то с берега только видел!
– Я тебе сказал: отползи.
– Да отползу, только не трави больше, что на флоте служил. Разве с кораблей ребята такие, как ты, бывают?..
Мордвинов оправдываться не стал, но задумался: почему все так? В экипаже «Аскольда» его не то чтобы любили особенно, просто относились к нему не хуже, чем к Платову или Русланову. Считали, что он скуповат немного, может нагрубить, но разве же он сделал что-либо плохое кому-нибудь? И не только на «Аскольде» – здесь тоже. «Правда, они боятся моих ночных дежурств, когда я требую от всех образцового порядка в помещении, но ведь на то и дисциплина! Прежде чем приказывать, научись подчиняться – в этом залог воинской службы. Ну и, спрашивается, какого черта этот парень придирается ко мне?..
Хотя – нет: он, пожалуй, прав, и вот почему: я стал уже не такой, каким был раньше, во мне что-то изменилось. В лучшую или в худшую сторону – я еще не могу понять. Во всяком случае, изменилось, и очень сильно. Люблю ли я вообще людей? Да, я люблю их, и даже этого парня люблю – он всегда веселый, хорошо шутит, легко жить, наверное, таким людям. А вот мне… Как странно все: Рябинин взял меня из детдома, поставил на работу, я жил не то чтобы прекрасно, но и не плохо, так же, как все; мне иногда было очень тяжело, холодно, я уставал, от меня пахло рыбьим жиром, и это была счастливая пора. А вот теперь… Сколько раз давал себе слово – не думать о ней, забыть лицо, голос, походку, вычеркнуть ее из жизни, будто и не было ничего. Да и в самом деле, если и было – так у кого угодно, только не у меня. Легко сказать – забудь, а вот ты попробуй – забудь. Отсюда, наверное, и все остальное…»
– Эй! – позвал он курсанта, который только что отошел от него. – Поди-ка сюда.
– Ну, чего тебе?
– Сядь. Ты где служил?
– Уж нет того корабля, на котором я служил.
– Погиб?
– На мине. Ночью.
– Значит, тонул ты?
– Сам понимаешь…
– Вот и я, – сказал Мордвинов, – тонул. Плохое, брат, это дело, скажу я тебе, тонуть-то!