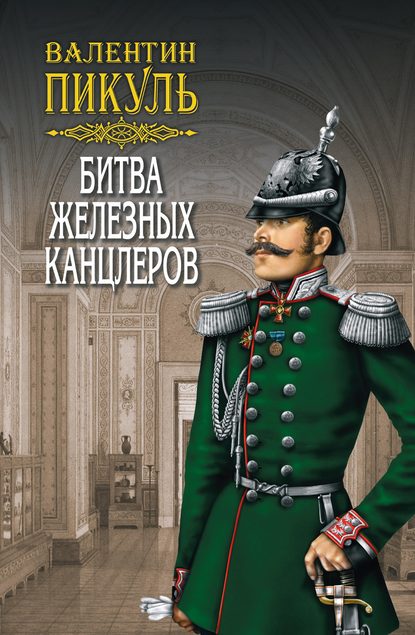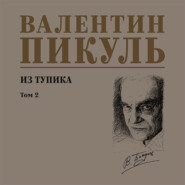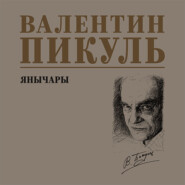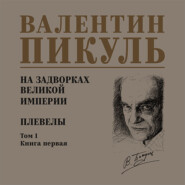По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Битва железных канцлеров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
История личности – это история ее предков…
Бисмарки происходят от буйного портняжки из Штендаля, бывшего таким задирой, что его даже отлучили от церкви (так и умер без покаяния). За 400 лет существования этого рода только один из Бисмарков не взял в руки меча; он основал замок Шёнхаузен, после чего старшие сыновья в роде Бисмарков получали к своей фамилии приставку «Шёнхаузен». Из глубины веков дошли до нас портреты Бисмарков, и разглядывать их весьма поучительно. Мужчины, как правило, забронированы латами, в руках дымятся мушкеты, лица бульдожьи, улыбки уст каверзны. А женщины некрасивы, без жеманства и кокетства; на портретах они замерли по стойке «смирно», словно сознавая свое абсолютное подчинение вооруженным до зубов мужьям.
Наш герой унаследовал от предков железное здоровье, презрение ко всяким иллюзиям, умение опираться на грубую животную силу и феноменальную волю в достижении желаемого. Один лишь вид препятствия, возникшего на пути, приводил Бисмарка в первобытную ярость. Бисмарк вобрал в себя и приметы «юнкерства» – любовь к охоте, к обильной еде и выпивке. Церковь не соблазняла его. «Что делать? – не раз говорил он. – Смолоду люблю длинные сосиски и коротенькие проповеди…»
Мать его была из профессорской семьи Менкенов и не желала видеть сына военным. Бисмарк учился сначала в Геттингене, потом в Берлине. «Она, – говорил он о матери, – хочет сделать из меня умного Менкена, но я решил остаться неглупым Бисмарком!» По ночам он шатался по улицам, распугивая прохожих, слонялся по трактирам. В корпорации буршей славился умением открывать бутылки выстрелами из пистолета. Науками он себя не изнурял, зато за три учебных семестра имел 27 дуэлей на рапирах. Глубокий шрам над верхней губой, обычно белый, становился багровым – в гневе… Но бурш не был глуп. Кейзерлинг, учившийся вместе с ним, знал, что Бисмарк замыкается на целые недели в аскетическом одиночестве, самоучкой постигая прошлое мира. «Изучая минувшее, – мечтал он, – можно предугадать будущее. История поможет мне распознать границы возможного: политик обязан знать, где кончается тропинка, ведущая его в пропасть…»
Из чиновной службы Бисмарк вынес ненависть к прусской бюрократии. Он не верил в ее способности и возненавидел дотошную аккуратность в чистописании казенных бумаг, которые никогда и никому не нужны. Бисмарк рассуждал так:
– Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали…
Бисмарк и сам убедился, что с его брутальным характером начальству не угодишь, а потому, плюнув на чиновную карьеру, зажил померанским помещиком. Слава о его буйных похождениях облетела всю Померанию. Бисмарк получил прозвище «бешеного юнкера»: он будил гостей выстрелами из пушки, ударами плети загонял в дамскую спальню диких визжащих лисиц. В результате ни одна девушка не пожелала стать его невестой. После смерти отца в 1845 году Бисмарк водворился в родовом замке Шёнхаузен. Знакомая ему семья фон Путкаммеров особенно невзлюбила Бисмарка в роли жениха. А так как любое сопротивление только усиливало энергию Бисмарка, то он своего добился – фрейлейн Путкаммер стала его женою. Эта очень некрасивая и сухопарая женщина была верным спутником его долгой жизни. Бисмарк не любил, если халат и туфли подавал лакей – пусть подаст жена! «А что ей еще делать?» – рычал он… В ту пору он был здоровым мужчиной, неутомимым и бодрым, до бесцеремонности откровенным…
Революция 1848 года стала для него рубежом, за которым он разглядел мир, ненавидимый им! В юнкере проснулся дух предков, которые в лесных чащобах, услышав цокот чьих-то копыт, сразу хватались за мечи, готовые рубиться насмерть. Бисмарк поднял крестьян на новую Вандею, чтобы раздавить «большие города», как источники революций. Он на коленях умолял короля быть тверже кремня, не щадить ядер и пороху, а принца Вильгельма (нынешнего регента) довел до истерики чтением каких-то дурацких стихов, в которых оплакивалось уроненное в лужу знамя Гогенцоллернов. Кровожадные взгляды Бисмарка напугали берлинский двор. «Дикого юнкера» стали бояться, но зато его все запомнили!
Революция тоже стремилась к объединению всех немцев под крышею единой Германии, но Бисмарк стоял по другую сторону баррикад: ему хотелось создать Германию не снизу, а сверху – не от народа, а от королевской власти. Из революции он вынес убеждение в слабости Гогенцоллернов, он презирал их тряские, как желе, душонки. В прусском ландтаге он занял крайнюю правую скамью. При этом еще издевался над теми, кто сидел левее его. Они тоже глумились над ним, но Бисмарк спокойно покрывал шум парламента гремящим басом:
– Нечленораздельные звуки – это не аргументы!
Да, Бисмарк никогда не скрывал, что реакция, как и революция, тоже способна воздвигать баррикады поперек улиц. Бисмарк – зверь, опасный для всех. Потому-то его и засунули во Франкфурт, как затычку в пустую прогнившую бочку.
* * *
Представители германских княжеств в «лисятнике» с рабской покорностью выслушивали венские окрики. Никто не осмеливался возражать графу Рехбергу, на лице коего запечатлелся сиятельный отблеск былой политики Кауница и Меттерниха.
Во время дебатов курил один лишь Рехберг!
Остальные нюхали, чем пахнут его сигары…
Наконец Бисмарку это надоело. Он раскрыл кожаный портсигар-складень, в карманах которого лежали отдельно две сигары и два гусиных пера. Прусский посол не спеша подошел к креслу председателя бундестага, сказал:
– Желаю от вас спичку, чтобы раскурить сигару…
Несовершенство тогдашних спичек заставило Рехберга немало повозиться, прежде чем сигара в руке Бисмарка не обдала его клубом противного дыма.
– Вот теперь хорошо, – сказал Бисмарк.
При гробовом молчании бундестага, пораженного строптивостью Пруссии, курили два человека – Рехберг и Бисмарк. Робкие послы немецких княжеств дождались вечера и разбежались по квартирам, дабы срочно сообщить сюзеренам о дерзком курении Пруссии. В частности, они спрашивали – как быть в этом случае? Можно ли им тоже курить в присутствии высокого посла Вены? Но княжеская Германия безмолвствовала…
Бисмарк спросил у посла Баварии, бывшей (после Пруссии) самым крупным государством в немецком мире:
– Вы получили ответ от своего правительства?
– Увы, – отвечал тот, – Мюнхен молчит.
– А без Мюнхена сами курить не можете?
– Но… что скажет Вена?
Бисмарк пожертвовал Баварии свою сигару.
– Решение этого вопроса, – сказал он послу, – вам предстоит взять на свою личную ответственность…
Вслед за Баварией с опаской задымили Саксония с Вюртембергом, даже робкий Ганновер разжег желтую испанскую пахитосу, только Гессен-Дармштадт не мог преодолеть в себе природного отвращения к табаку. Бисмарк шепнул гессенцу:
– Да суньте хотя бы трубку в рот и терзайте ее в зубах, чтобы побесить этого венского зазнайку…
Граф Рехберг, обкуренный со всех сторон германскими вассалами, приблизился к Бисмарку со словами:
– Но ведь это… революция! Господин прусский посол, за оскорбление моей имперской особы я делаю вам… вызов!
Бисмарк только того и желал. Раздалось рычание:
– Едем в Бокенгеймскую рощу… Эй, шпаги нам!
Рехберг ожидал от Бисмарка только извинений:
– Я не могу дуэлировать без разрешения Вены.
– Вы бесчестны, как и ваша занюханная, паршивая Вена! Господа, будьте свидетелями… составим протокол!
Их растащили в стороны, как уличных драчунов.
Бисмарк прямо в лицо Рехбергу выпалил:
– Вы понюхали лишь табачного дыма, но придет время, и я заставлю Вену глотать пороховой дым артиллерии…
Французский посланник во Франкфурте, дружески относившийся к Бисмарку, застал его в беседе на Ландштрассе.
– Коллега, – сказал он, – из вас никогда не получится дипломата, ибо вы крайне неосторожны в выборе слов.
Бисмарк в ответ оглушительно захохотал:
– А не выпить ли нам по этому поводу?..
Рехберг нажаловался в Вену, возникла кляузная переписка с Берлином, и принц-регент сказал генералу Роону:
– Не мешало бы для Бисмарка найти такое прохладное местечко, где бы он мог остудить слишком горячую голову. Наверное, петербургские морозы пойдут ему на пользу…
Осложнения со взрывами
Горчаков навестил Алексея Федоровича Орлова, который после Парижского конгресса получил титул князя и заседал в комиссии по освобождению крестьян от крепостной зависимости, относясь к реформам крайне враждебно. В разговоре с ним, между прочим, Александр Михайлович спросил:
– А что вы можете сказать о графе Кавуре?
Кавур – премьер-министр Пьемонта, иначе Сардинского королевства; он действовал путем интриг, почти ювелирных, ловко используя в своих целях и патриотизм гарибальдийцев.
– Меня так затеребили в Париже, – отвечал Орлов, – что было не до Кавура. Когда страсти конгресса поутихли, я сам подошел к нему и сказал следующее: «Граф, пусть это останется лишь историческим анекдотом, что ваш Пьемонт, не в силах избавить Италию от австрийцев, уже позарился на захват нашего русского Крыма…»