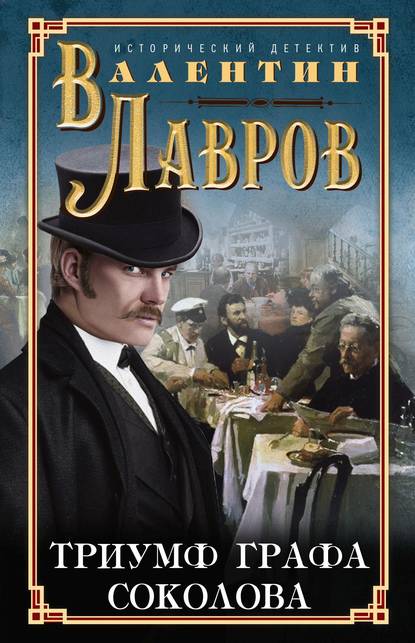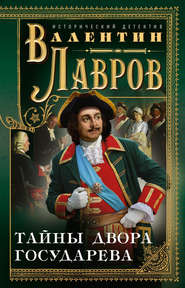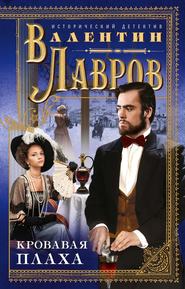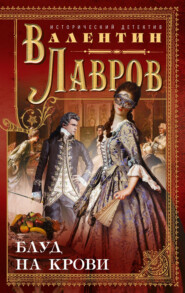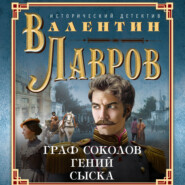По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Триумф графа Соколова
Серия
Год написания книги
1999
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тот неопределенно отвечал:
– Трудно говорить с определенностью, однако…
Его перебил Шаляпин, который страстно начал доказывать, что войны не будет.
Соколов обратился к Гарнич-Гарницкому:
– Отчего, сударь, вы нынче столь печальны?
Подметное письмо
Тот после некоторой паузы, задумчиво почесав переносицу, медленно произнес:
– Со мной произошла странная и нехорошая история. Я еще никого в нее не посвящал, вы, Аполлинарий Николаевич, первый. И я очень жду вашей помощи. Но теперь вижу, что ресторан не очень подходящее место для нашей беседы. Позвольте к вам завтра пораньше заглянуть?
– Конечно, Федор Федорович, приходите к девяти. Я буду в первом люксе ждать вас.
– Вот, на всякий случай возьмите это письмо. – И он протянул обычный, сиреневого цвета почтовый конверт.
Соколов удивился: кончики пальцев у этого всегда мужественного человека слегка дрожали.
Гарнич-Гарницкий продолжал:
– Лучше, если оно у вас будет. Сегодня моему камердинеру вручил письмо какой-то мужчина, приметы которого камердинер сообщить не умеет. Дома прочтите, оно напрямую связано с тем, что меня тревожит. Мои враги пошли на хитрость. Чтобы скомпрометировать меня, пишут как бы от лица неведомой мне возлюбленной. Теперь я не уверен ни в одном своем дне. Иду словно над пропастью.
На конверте изящным, немного округлым и каллиграфическим почерком было выведено черными чернилами: «Его высокоблагородию, действительному статскому советнику Ф.Ф. Гарнич-Гарницкому – лично».
Сыщик убрал письмо, произнес:
– Дома прочту, писала явно женская рука.
Раздался рокочущий голос Шаляпина:
– Эй, друзья! Почему не пьем? Не дело! Человек, беги на кухню, спроси: готов «Граф Соколов»? А то сейчас съедим своего, натурального. Ха-ха!
* * *
Разъехались незадолго перед закрытием ресторана, в половине третьего.
Следующий день стал у графа весьма хлопотливым.
Шантаж
В «Астории» Соколов принял душ (это он делал два раза в день – после сна и перед сном). Уже вытянулся на широчайшей, но недостаточно длинной постели по диагонали, как вдруг спохватился:
– Ах, письмо!
Он достал чуть смятый конверт, вынул из него обычный лист почтовой бумаги. В левом углу картинка – изящно отпечатанные белые и розовые маргаритки. Мелькнула мысль: маргаритки – смертные цветы, их сажают на могилах. Поднес к носу лист: запах был сложным – табачный смешался с еле заметным нежным – дамских духов, – который показался ему знакомым.
Сыщик улыбнулся, подумал: «Ну совсем как в дешевых книжонках про Ната Пинкертона или пресловутого Шерлока Холмса. Эти выдуманные сыскари по воле их авторов то и дело нюхают вещественные доказательства, словно охотничьи псы».
Расправил письмо, начал читать:
«Милый Теодор!
Все мои дни наполнены только Вами. Вы переменили мою жизнь. Я целую этот лист, ибо знаю, что Ваши руки коснутся его. Нет на свете ничего страшнее, чем любить и знать, что твои чувства никогда разделены не будут. О боже, за что такая мука?!
И все же луч надежды не померк: отдайте этим гнусным людям то, что они требуют. Может, они правы, что это пойдет на пользу нашей России, которую я патриотично люблю?
И тогда они выпустят меня из своих когтей! Я тут же сольюсь в любовной истоме с Вами, о мое дорогое дитя! Ваша душа создана для любви чистой и пылкой. Любовь – это неземное блаженство, которое в полной мере только я смогу дать Вам, ибо никто, кроме меня, не в состоянии оценить превосходные качества Вашей души.
Неужели какой-то пустяк, кучка каких-то жалких бумажек станут непреодолимой преградой между нами? Женское сердце так нежно, что одно неосторожное прикосновение может разбить его, как драгоценную фарфоровую вазу.
Я падаю на колени: Вы, милый ангел, можете растоптать меня, но берегите нашу любовь – она дарована небом!
Вечно Ваша Е.».
Соколов перечитал письмо. С удивлением подумал: «Боже, какой изящный слог! Сама Жорж Занд не писала столь возвышенно своему возлюбленному – Альфреду Мюссе».
Он спрятал письмо в ящик письменного стола, помолился на угадывавшийся за окном в непроглядной тьме купол Исаакиевского собора и через минуту погрузился в беспробудный сон.
Легенда
Утром Соколов спал дольше обычного. Разом пробудившись, открыл крышку золотого карманного «Буре». Стрелки показывали начало девятого. По обычаю размявшись гимнастикой, сыщик перешел к силовым упражнениям: приседания, отжимания с полсотни раз – уперевшись руками в пол, а ноги поставив на широкий мраморный подоконник.
Едва принял душ и оделся, в дверь постучали. Это был Гарнич-Гарницкий.
– Завтракать, сударь, желаете? – гостеприимно осведомился Соколов.
Гость махнул рукой:
– У меня аппетит пропал, похудел на шесть фунтов. Если только чашку крепкого чая…
Лакей принес в люкс из ресторана легкий завтрак и самовар. Соколов, поглощая омлет из дюжины яиц с ветчиной, участливо спросил:
– И что вас тревожит, Федор Федорович?
– Нынешней осенью, в самом конце ноября, я в поздний час возвращался с какого-то приема. Хотелось прогуляться. Я отпустил извозчика, а сам не спеша двинулся вдоль Малой Невки. Кругом ни души. Вдруг слышу торопливые шаги. Оглянулся – меня какая-то долговязая фигура, одетая в ватерпруф, догоняет. Еще на подходе, шагов за десять, фигура вежливо приподымает шляпу:
«Простите за беспокойство. Если не ошибаюсь, вас зовут Гарнич-Гарницкий?»
Лица в темноте не разглядеть. Я удивления не показываю, спокойно отвечаю:
«Чем, сударь, могу быть вам полезным?»
«О да, вы можете быть полезным. Наш разговор совсем конфиденциальный. Я прошу вас не волноваться. Пока вы в полной безопасности». – Слова вежливые, а тон угрожающий.
Чувствую, добра ждать от этой встречи не приходится. Требовательно произношу:
– Трудно говорить с определенностью, однако…
Его перебил Шаляпин, который страстно начал доказывать, что войны не будет.
Соколов обратился к Гарнич-Гарницкому:
– Отчего, сударь, вы нынче столь печальны?
Подметное письмо
Тот после некоторой паузы, задумчиво почесав переносицу, медленно произнес:
– Со мной произошла странная и нехорошая история. Я еще никого в нее не посвящал, вы, Аполлинарий Николаевич, первый. И я очень жду вашей помощи. Но теперь вижу, что ресторан не очень подходящее место для нашей беседы. Позвольте к вам завтра пораньше заглянуть?
– Конечно, Федор Федорович, приходите к девяти. Я буду в первом люксе ждать вас.
– Вот, на всякий случай возьмите это письмо. – И он протянул обычный, сиреневого цвета почтовый конверт.
Соколов удивился: кончики пальцев у этого всегда мужественного человека слегка дрожали.
Гарнич-Гарницкий продолжал:
– Лучше, если оно у вас будет. Сегодня моему камердинеру вручил письмо какой-то мужчина, приметы которого камердинер сообщить не умеет. Дома прочтите, оно напрямую связано с тем, что меня тревожит. Мои враги пошли на хитрость. Чтобы скомпрометировать меня, пишут как бы от лица неведомой мне возлюбленной. Теперь я не уверен ни в одном своем дне. Иду словно над пропастью.
На конверте изящным, немного округлым и каллиграфическим почерком было выведено черными чернилами: «Его высокоблагородию, действительному статскому советнику Ф.Ф. Гарнич-Гарницкому – лично».
Сыщик убрал письмо, произнес:
– Дома прочту, писала явно женская рука.
Раздался рокочущий голос Шаляпина:
– Эй, друзья! Почему не пьем? Не дело! Человек, беги на кухню, спроси: готов «Граф Соколов»? А то сейчас съедим своего, натурального. Ха-ха!
* * *
Разъехались незадолго перед закрытием ресторана, в половине третьего.
Следующий день стал у графа весьма хлопотливым.
Шантаж
В «Астории» Соколов принял душ (это он делал два раза в день – после сна и перед сном). Уже вытянулся на широчайшей, но недостаточно длинной постели по диагонали, как вдруг спохватился:
– Ах, письмо!
Он достал чуть смятый конверт, вынул из него обычный лист почтовой бумаги. В левом углу картинка – изящно отпечатанные белые и розовые маргаритки. Мелькнула мысль: маргаритки – смертные цветы, их сажают на могилах. Поднес к носу лист: запах был сложным – табачный смешался с еле заметным нежным – дамских духов, – который показался ему знакомым.
Сыщик улыбнулся, подумал: «Ну совсем как в дешевых книжонках про Ната Пинкертона или пресловутого Шерлока Холмса. Эти выдуманные сыскари по воле их авторов то и дело нюхают вещественные доказательства, словно охотничьи псы».
Расправил письмо, начал читать:
«Милый Теодор!
Все мои дни наполнены только Вами. Вы переменили мою жизнь. Я целую этот лист, ибо знаю, что Ваши руки коснутся его. Нет на свете ничего страшнее, чем любить и знать, что твои чувства никогда разделены не будут. О боже, за что такая мука?!
И все же луч надежды не померк: отдайте этим гнусным людям то, что они требуют. Может, они правы, что это пойдет на пользу нашей России, которую я патриотично люблю?
И тогда они выпустят меня из своих когтей! Я тут же сольюсь в любовной истоме с Вами, о мое дорогое дитя! Ваша душа создана для любви чистой и пылкой. Любовь – это неземное блаженство, которое в полной мере только я смогу дать Вам, ибо никто, кроме меня, не в состоянии оценить превосходные качества Вашей души.
Неужели какой-то пустяк, кучка каких-то жалких бумажек станут непреодолимой преградой между нами? Женское сердце так нежно, что одно неосторожное прикосновение может разбить его, как драгоценную фарфоровую вазу.
Я падаю на колени: Вы, милый ангел, можете растоптать меня, но берегите нашу любовь – она дарована небом!
Вечно Ваша Е.».
Соколов перечитал письмо. С удивлением подумал: «Боже, какой изящный слог! Сама Жорж Занд не писала столь возвышенно своему возлюбленному – Альфреду Мюссе».
Он спрятал письмо в ящик письменного стола, помолился на угадывавшийся за окном в непроглядной тьме купол Исаакиевского собора и через минуту погрузился в беспробудный сон.
Легенда
Утром Соколов спал дольше обычного. Разом пробудившись, открыл крышку золотого карманного «Буре». Стрелки показывали начало девятого. По обычаю размявшись гимнастикой, сыщик перешел к силовым упражнениям: приседания, отжимания с полсотни раз – уперевшись руками в пол, а ноги поставив на широкий мраморный подоконник.
Едва принял душ и оделся, в дверь постучали. Это был Гарнич-Гарницкий.
– Завтракать, сударь, желаете? – гостеприимно осведомился Соколов.
Гость махнул рукой:
– У меня аппетит пропал, похудел на шесть фунтов. Если только чашку крепкого чая…
Лакей принес в люкс из ресторана легкий завтрак и самовар. Соколов, поглощая омлет из дюжины яиц с ветчиной, участливо спросил:
– И что вас тревожит, Федор Федорович?
– Нынешней осенью, в самом конце ноября, я в поздний час возвращался с какого-то приема. Хотелось прогуляться. Я отпустил извозчика, а сам не спеша двинулся вдоль Малой Невки. Кругом ни души. Вдруг слышу торопливые шаги. Оглянулся – меня какая-то долговязая фигура, одетая в ватерпруф, догоняет. Еще на подходе, шагов за десять, фигура вежливо приподымает шляпу:
«Простите за беспокойство. Если не ошибаюсь, вас зовут Гарнич-Гарницкий?»
Лица в темноте не разглядеть. Я удивления не показываю, спокойно отвечаю:
«Чем, сударь, могу быть вам полезным?»
«О да, вы можете быть полезным. Наш разговор совсем конфиденциальный. Я прошу вас не волноваться. Пока вы в полной безопасности». – Слова вежливые, а тон угрожающий.
Чувствую, добра ждать от этой встречи не приходится. Требовательно произношу: