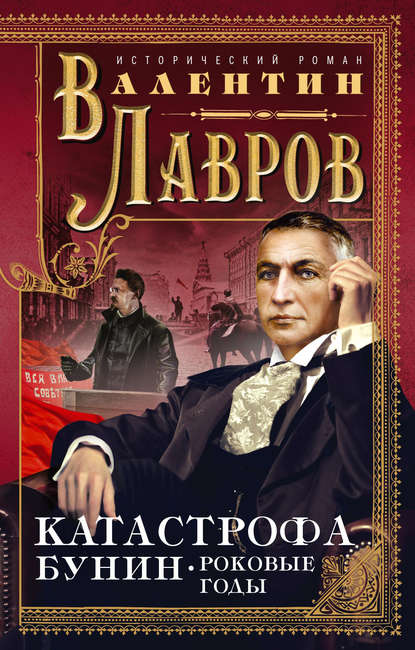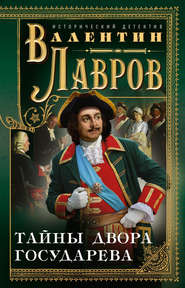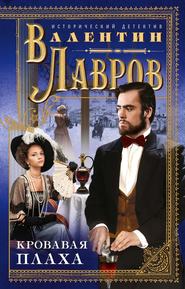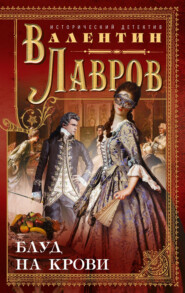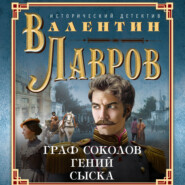По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Катастрофа. Бунин. Роковые годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бунин, находясь в деревенской глухомани, с ужасом читал в газетах:
«Все усилия большевиков направлены к пролитию крови, к массовому разгулу беспорядков и грабежей. Партия Ленина „якобы вооружает рабочих в целях самозащиты“. Ведь по Петрограду ходят слухи, что Временное правительство планирует сдать Петроград немцам.
Правительству приходится давать официальное опровержение этой инсинуации. Убегать из города никто не собирается. Большевики уличены общественностью в распространении клеветы на правительство. Нет сомнения и в том, что слух о своем возможном выступлении они распространили по городу умышленно, чтобы усилить хаос и панику. На большее у них силенок не хватит. Большевизм пока в общественном сознании ассоциируется с анархией.
Появляются достоверные сведения о прибытии в Петроград множества воровских шаек со всей России. Темные личности уже переполняют чайные и притоны».
Когда Ленин умрет, воровская тюрьма на Таганке в числе первых соберет деньги на венок защитнику всех обездоленных. Что-что, а чувство благодарности в уголовной среде в те времена свято чтилось.
7
Все военные годы Россия жила в режиме строгого алкогольного ограничения. Все склады спиртного надежно охранялись. И до августа семнадцатого года не было случаев разбойного нападения на эти склады.
Но вот, словно по приказу, в местах, где дислоцировались войска, начали громить винные лавки, склады со спиртом и даже винокуренные заводы.
«Новое время» с тревогой извещало:
«В три часа ночи первого октября три эскадрона Н-ского полка по тревоге вызваны в Минск и оттуда отправлены в Смоленск и во Ржев. Причины тревоги – разгром солдатами пехотных частей винокуренных заводов и складов спирта. Эскадрон прибыл во Ржев третьего октября.
В городе раздаются выстрелы и пахнет спиртом. Всюду валяются разбитые бутылки разных величин. Первый усмирительный отряд не выдержал искуса и перепился. Держались сначала только офицеры, но пьяные солдаты заставляли их пить под угрозой, что иначе всех перережут. Заботило всех, выдержат ли наши драгуны. Приказали четвертого октября в шесть часов оцепить полуэскадрону винокуренный завод и склад. Прошли томительные сутки, и наряд с честью исполнил свой долг. Во Ржеве предстоит разоружить 8000 перепившихся пехотных солдат».
Пьяное море захлестнуло Россию… В нем утопала главная опора государства – армия. Отовсюду шли известия, что рядовой состав спивается, слабеет дисциплина, авторитет офицеров падает. Старая истина: развали армию – рухнет любое государство.
Целое море спирта было вылито в глотки солдат и матросов Петроградского гарнизона! Близился штурм Зимнего дворца…
«Много пить – добру не быть» – это, конечно, так. Но не перехлестнись большевики с немцами – не быть ни этому пьянству, ни разложению армии, ни выстрелу «Авроры»…
Прощальный пир
1
Поднимая тучи пыли, гремя расшатанными в осях колесами, по дороге неслась, словно спешила в преисподнюю, телега. Мужик, сидевший в ней на охапке сена, подергивал вожжами и, широко разевая щербатый рот, пьяным голосом орал какую-то песню.
Бунин подхватил за плечи жену, отпрянул на обочину, покачал головой:
– Ты, Вера, думаешь, у него есть какое-то спешное дело, что он сейчас загоняет последнюю лошаденку? Просто напился и теперь куражится. А о том, что околеет кобыла или себе сломает шею, не думает. Ведь у него даже вожжи веревочные – признак деревенской бедности. Зато пролетел мимо бар, обдал их пылью – и рад, гуляка хренов. Вот что вино да глупость делают. Жаль только лошадь. Он ее, подлец, на отделку замучает.
Сорвав травинку, Иван Алексеевич задумчиво помял ее в руке, поднес к лицу, глубоко вдохнул свежий запах зелени. Потом удрученно проговорил:
– А чем мы, интеллигенция, лучше этого мужика? Начиная с декабристов, мятемся, ищем какой-то неизвестной «свободы», ломаем устоявшееся. А теперь вот воспеваем «гордого сокола» и «буревестника, черной молнии подобного», призываем, поднимаем «больные вопросы», мечтаем о «светозарном будущем», о «свободе», а не делаем единственно нужного на земле дела – толком не работаем, каждый на своем месте. Все ищем каких-то великих дел, каких никогда не бывает. Страшно сказать, но героем мечтаний, чуть не образцом «нового» человека стал бездомный воришка Чел-каш. И бесконечные призывы к «свободе»… Всякая шпана лезет в начальство, претендует на роль «учителей народа». Незадолго до последнего отъезда в Петроград, в начале двадцатых чисел марта, случилось мне быть на Казанском вокзале в Москве. Денек был веселый, солнечный. Я пришел встретить Юлия, возвращавшегося из Рязани. С удивлением замечаю: повсюду толпы народа, всеобщее оживление. Платформы до отказа забиты. Солидные мужчины и дамы на крыши вагонов карабкаются – смешно вспоминать! Подножки и буфера облепили, как муравьи, висят. Даже глазам не верю. Спрашиваю: «Что такое? По какому поводу?» Какой-то рабочий в картузе и без передних зубов возмущенно шепелявит: «Как, господин, вы не знаете? Из ссылки возвращается Катерина Константиновна». – «Катерина? Кто такая?» Тот буркалы выпучил и раздулся от негодования: «Так вы газет не читаете? Бабушка русской революции Брешко-Брешковская возвращается». – «А вам какая, простите, радость?» Картуз совсем зашелся: «Как – какая?! Она за народное счастье борется, по тюрьмам и ссылкам за нас, простых людей, страдала! А вы, господин хороший, „какая радость“? Несознательность весьма удивительная».
Грянул духовой оркестр. Играет «Марсельезу». К перрону состав подходит. Открывается дверь спального вагона. В проеме показывается толстая старуха с круглым лицом. Сама в черном драповом пальто с широким бобровым воротником шалью и круглой, почти под казачью папаху, шапке – и тоже из бобра. Под шапкой платок, в зубах папироса. В руках белый платочек – машет им. Фигура самая карикатурная! Сплюнула папиросу и весело крикнула: «Здравствуйте!»
Господи, что тут началось. Оркестр гремит, толпа ревет «ура!», все толкаются, бабка из вагона выйти робеет – вмиг раздавят!
Кое-как успокоились, начались бесконечные славословия. Кишкин от московского комиссариата приветствует охапкой цветов и восторженной речью, от социалистов-революционеров Минор что-то грассирует, ни черта никто не поймет. Потом бабку усадили в мягкое кресло, подняли на плечи, едва было не вывалив на рельсы, потащили к автомобилю. Бабка колышется над толпой и расшвыривает налево-направо гвоздики – «на память». Тебе, Вера, надо было видеть счастье на физиономиях тех, кому доставался бабкин дар: цветы целовали, на лицах слезы умиления…
Наконец Катерина Константиновна уселась в автомобиль. Говорили, что повезли прямо на Моховую, в университет – там эсеры организовали собрание «За свободную Россию». Бедная, бедная Русь: психические больные лезут в политику.
– Ян, ты считаешь, народу не нужна свобода?
Ян – именно так Вера звала мужа. Тот внимательно поглядел на жену и грустно улыбнулся:
– На ретрограда я, кажется, никак не похож? Но будем откровенны: какая свобода нужна российскому мужику? Свобода слова, бесцензурная печать, Государственная дума? Его волнуют речи Гучкова или Керенского? Да плевал он на такие свободы. Мужику только одно нужно – земля. А кто в Зимнем будет править, ему безразлично. Лишь бы оставили его в покое, не мешали хлеб растить.
Бунин докурил папиросу, бросил окурок в придорожную пыль.
– Государственная дума мужику – как мертвому кадило. А вот всяким Керенским и революционерам мужик нужен – чтобы кормиться.
– Но, милый, – горячилась Вера, – Дума печется о крестьянах, решает вопросы, чтобы улучшить…
– Улучшить? Весьма сомневаюсь. Помнишь поговорку: «Всякая рука себе гребет». В Питере себе гребут.
Бунин помолчал, потом неожиданно привлек жену и нежно поцеловал в затылок.
– Эх, Вера, плохо на Руси, плохо и нам с тобой. Кругом кровь льется, в любой день и нас могут сжечь, унизить, убить. Вот уже лет двадцать Россия мне напоминает этого пьяного мужика, с дикарским ухарством стремящегося сломать себе шею. Терроризм, убийства сановников, заговоры. Какие-то группировки под видом «борьбы за народное счастье» разлагают общество. А демонстрации, забастовки, расстрелы? Ведь все эти преступления подталкивают Русь к пропасти.
– Может, все наладится? – с надеждой спросила Вера. – Вот закончится война, соберется Учредительное собрание…
Бунин перебил:
– Да разве Учредительное собрание с его говорильней изменит людей? Останутся такими же – лживыми и корыстными. Нет, не скоро мы образумимся.
Помолчав, вздохнул:
– Помнишь в «Войне и мире»? В Бородинском сражении бойцы с той и другой стороны, сражавшиеся много часов без пищи и отдыха, измученные и обезумевшие от ужаса, от чужой крови, начали задумываться: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитым?» Но какая-то непонятная, таинственная сила продолжала толкать их на убийство, и они в порохе, в крови, валясь от усталости, продолжали свершать страшное дело. Вот и сейчас подобное безумие. Длится война с Германией, разгорается бойня внутри государства. Все знают, что бессмысленно истреблять друг друга, но с бесовской одержимостью не могут остановиться.
…Думалось: хуже уже не будет. Хуже просто не бывает.
Ан нет, жизнь показала – бывает!
2
Наступивший досуг душу не согревал. Было ощущение, словно висишь каким-то неведомым образом над темной пропастью и не знаешь, то ли выберешься к прежней, теперь уже казавшейся сказочно счастливой, жизни, то ли в следующее мгновение полетишь в эту самую пропасть и не соберешь костей. И не только сам, но все близкие: и Вера, и Юлий, и служанка, и культура, и вся Россия – в пропасть, в пропасть.
Бунин, тяжко вздохнув, изо дня в день садился за простой дощатый стол, раскрывал свой дневник и записывал безрадостные новости:
«Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили босого по битому стеклу».
«Холодно, тучи, северо-западный ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику».
«Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!»
«Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость!»
«Одна из самых вредных фигур – Керенский. А его произвели в герои».
Прервал писание, тяжело задумался: «Как удивительно, все краски мира поблекли. Мир и впрямь сделался каким-то грязно-серым. Наверное, самоубийцы, прежде чем наложить на себя руки, теряют ощущение красочности». Бунин зябко передернул плечами, по телу словно ток пробежал. Почистил перо, продолжил:
«Все усилия большевиков направлены к пролитию крови, к массовому разгулу беспорядков и грабежей. Партия Ленина „якобы вооружает рабочих в целях самозащиты“. Ведь по Петрограду ходят слухи, что Временное правительство планирует сдать Петроград немцам.
Правительству приходится давать официальное опровержение этой инсинуации. Убегать из города никто не собирается. Большевики уличены общественностью в распространении клеветы на правительство. Нет сомнения и в том, что слух о своем возможном выступлении они распространили по городу умышленно, чтобы усилить хаос и панику. На большее у них силенок не хватит. Большевизм пока в общественном сознании ассоциируется с анархией.
Появляются достоверные сведения о прибытии в Петроград множества воровских шаек со всей России. Темные личности уже переполняют чайные и притоны».
Когда Ленин умрет, воровская тюрьма на Таганке в числе первых соберет деньги на венок защитнику всех обездоленных. Что-что, а чувство благодарности в уголовной среде в те времена свято чтилось.
7
Все военные годы Россия жила в режиме строгого алкогольного ограничения. Все склады спиртного надежно охранялись. И до августа семнадцатого года не было случаев разбойного нападения на эти склады.
Но вот, словно по приказу, в местах, где дислоцировались войска, начали громить винные лавки, склады со спиртом и даже винокуренные заводы.
«Новое время» с тревогой извещало:
«В три часа ночи первого октября три эскадрона Н-ского полка по тревоге вызваны в Минск и оттуда отправлены в Смоленск и во Ржев. Причины тревоги – разгром солдатами пехотных частей винокуренных заводов и складов спирта. Эскадрон прибыл во Ржев третьего октября.
В городе раздаются выстрелы и пахнет спиртом. Всюду валяются разбитые бутылки разных величин. Первый усмирительный отряд не выдержал искуса и перепился. Держались сначала только офицеры, но пьяные солдаты заставляли их пить под угрозой, что иначе всех перережут. Заботило всех, выдержат ли наши драгуны. Приказали четвертого октября в шесть часов оцепить полуэскадрону винокуренный завод и склад. Прошли томительные сутки, и наряд с честью исполнил свой долг. Во Ржеве предстоит разоружить 8000 перепившихся пехотных солдат».
Пьяное море захлестнуло Россию… В нем утопала главная опора государства – армия. Отовсюду шли известия, что рядовой состав спивается, слабеет дисциплина, авторитет офицеров падает. Старая истина: развали армию – рухнет любое государство.
Целое море спирта было вылито в глотки солдат и матросов Петроградского гарнизона! Близился штурм Зимнего дворца…
«Много пить – добру не быть» – это, конечно, так. Но не перехлестнись большевики с немцами – не быть ни этому пьянству, ни разложению армии, ни выстрелу «Авроры»…
Прощальный пир
1
Поднимая тучи пыли, гремя расшатанными в осях колесами, по дороге неслась, словно спешила в преисподнюю, телега. Мужик, сидевший в ней на охапке сена, подергивал вожжами и, широко разевая щербатый рот, пьяным голосом орал какую-то песню.
Бунин подхватил за плечи жену, отпрянул на обочину, покачал головой:
– Ты, Вера, думаешь, у него есть какое-то спешное дело, что он сейчас загоняет последнюю лошаденку? Просто напился и теперь куражится. А о том, что околеет кобыла или себе сломает шею, не думает. Ведь у него даже вожжи веревочные – признак деревенской бедности. Зато пролетел мимо бар, обдал их пылью – и рад, гуляка хренов. Вот что вино да глупость делают. Жаль только лошадь. Он ее, подлец, на отделку замучает.
Сорвав травинку, Иван Алексеевич задумчиво помял ее в руке, поднес к лицу, глубоко вдохнул свежий запах зелени. Потом удрученно проговорил:
– А чем мы, интеллигенция, лучше этого мужика? Начиная с декабристов, мятемся, ищем какой-то неизвестной «свободы», ломаем устоявшееся. А теперь вот воспеваем «гордого сокола» и «буревестника, черной молнии подобного», призываем, поднимаем «больные вопросы», мечтаем о «светозарном будущем», о «свободе», а не делаем единственно нужного на земле дела – толком не работаем, каждый на своем месте. Все ищем каких-то великих дел, каких никогда не бывает. Страшно сказать, но героем мечтаний, чуть не образцом «нового» человека стал бездомный воришка Чел-каш. И бесконечные призывы к «свободе»… Всякая шпана лезет в начальство, претендует на роль «учителей народа». Незадолго до последнего отъезда в Петроград, в начале двадцатых чисел марта, случилось мне быть на Казанском вокзале в Москве. Денек был веселый, солнечный. Я пришел встретить Юлия, возвращавшегося из Рязани. С удивлением замечаю: повсюду толпы народа, всеобщее оживление. Платформы до отказа забиты. Солидные мужчины и дамы на крыши вагонов карабкаются – смешно вспоминать! Подножки и буфера облепили, как муравьи, висят. Даже глазам не верю. Спрашиваю: «Что такое? По какому поводу?» Какой-то рабочий в картузе и без передних зубов возмущенно шепелявит: «Как, господин, вы не знаете? Из ссылки возвращается Катерина Константиновна». – «Катерина? Кто такая?» Тот буркалы выпучил и раздулся от негодования: «Так вы газет не читаете? Бабушка русской революции Брешко-Брешковская возвращается». – «А вам какая, простите, радость?» Картуз совсем зашелся: «Как – какая?! Она за народное счастье борется, по тюрьмам и ссылкам за нас, простых людей, страдала! А вы, господин хороший, „какая радость“? Несознательность весьма удивительная».
Грянул духовой оркестр. Играет «Марсельезу». К перрону состав подходит. Открывается дверь спального вагона. В проеме показывается толстая старуха с круглым лицом. Сама в черном драповом пальто с широким бобровым воротником шалью и круглой, почти под казачью папаху, шапке – и тоже из бобра. Под шапкой платок, в зубах папироса. В руках белый платочек – машет им. Фигура самая карикатурная! Сплюнула папиросу и весело крикнула: «Здравствуйте!»
Господи, что тут началось. Оркестр гремит, толпа ревет «ура!», все толкаются, бабка из вагона выйти робеет – вмиг раздавят!
Кое-как успокоились, начались бесконечные славословия. Кишкин от московского комиссариата приветствует охапкой цветов и восторженной речью, от социалистов-революционеров Минор что-то грассирует, ни черта никто не поймет. Потом бабку усадили в мягкое кресло, подняли на плечи, едва было не вывалив на рельсы, потащили к автомобилю. Бабка колышется над толпой и расшвыривает налево-направо гвоздики – «на память». Тебе, Вера, надо было видеть счастье на физиономиях тех, кому доставался бабкин дар: цветы целовали, на лицах слезы умиления…
Наконец Катерина Константиновна уселась в автомобиль. Говорили, что повезли прямо на Моховую, в университет – там эсеры организовали собрание «За свободную Россию». Бедная, бедная Русь: психические больные лезут в политику.
– Ян, ты считаешь, народу не нужна свобода?
Ян – именно так Вера звала мужа. Тот внимательно поглядел на жену и грустно улыбнулся:
– На ретрограда я, кажется, никак не похож? Но будем откровенны: какая свобода нужна российскому мужику? Свобода слова, бесцензурная печать, Государственная дума? Его волнуют речи Гучкова или Керенского? Да плевал он на такие свободы. Мужику только одно нужно – земля. А кто в Зимнем будет править, ему безразлично. Лишь бы оставили его в покое, не мешали хлеб растить.
Бунин докурил папиросу, бросил окурок в придорожную пыль.
– Государственная дума мужику – как мертвому кадило. А вот всяким Керенским и революционерам мужик нужен – чтобы кормиться.
– Но, милый, – горячилась Вера, – Дума печется о крестьянах, решает вопросы, чтобы улучшить…
– Улучшить? Весьма сомневаюсь. Помнишь поговорку: «Всякая рука себе гребет». В Питере себе гребут.
Бунин помолчал, потом неожиданно привлек жену и нежно поцеловал в затылок.
– Эх, Вера, плохо на Руси, плохо и нам с тобой. Кругом кровь льется, в любой день и нас могут сжечь, унизить, убить. Вот уже лет двадцать Россия мне напоминает этого пьяного мужика, с дикарским ухарством стремящегося сломать себе шею. Терроризм, убийства сановников, заговоры. Какие-то группировки под видом «борьбы за народное счастье» разлагают общество. А демонстрации, забастовки, расстрелы? Ведь все эти преступления подталкивают Русь к пропасти.
– Может, все наладится? – с надеждой спросила Вера. – Вот закончится война, соберется Учредительное собрание…
Бунин перебил:
– Да разве Учредительное собрание с его говорильней изменит людей? Останутся такими же – лживыми и корыстными. Нет, не скоро мы образумимся.
Помолчав, вздохнул:
– Помнишь в «Войне и мире»? В Бородинском сражении бойцы с той и другой стороны, сражавшиеся много часов без пищи и отдыха, измученные и обезумевшие от ужаса, от чужой крови, начали задумываться: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитым?» Но какая-то непонятная, таинственная сила продолжала толкать их на убийство, и они в порохе, в крови, валясь от усталости, продолжали свершать страшное дело. Вот и сейчас подобное безумие. Длится война с Германией, разгорается бойня внутри государства. Все знают, что бессмысленно истреблять друг друга, но с бесовской одержимостью не могут остановиться.
…Думалось: хуже уже не будет. Хуже просто не бывает.
Ан нет, жизнь показала – бывает!
2
Наступивший досуг душу не согревал. Было ощущение, словно висишь каким-то неведомым образом над темной пропастью и не знаешь, то ли выберешься к прежней, теперь уже казавшейся сказочно счастливой, жизни, то ли в следующее мгновение полетишь в эту самую пропасть и не соберешь костей. И не только сам, но все близкие: и Вера, и Юлий, и служанка, и культура, и вся Россия – в пропасть, в пропасть.
Бунин, тяжко вздохнув, изо дня в день садился за простой дощатый стол, раскрывал свой дневник и записывал безрадостные новости:
«Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили босого по битому стеклу».
«Холодно, тучи, северо-западный ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику».
«Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!»
«Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость!»
«Одна из самых вредных фигур – Керенский. А его произвели в герои».
Прервал писание, тяжело задумался: «Как удивительно, все краски мира поблекли. Мир и впрямь сделался каким-то грязно-серым. Наверное, самоубийцы, прежде чем наложить на себя руки, теряют ощущение красочности». Бунин зябко передернул плечами, по телу словно ток пробежал. Почистил перо, продолжил: