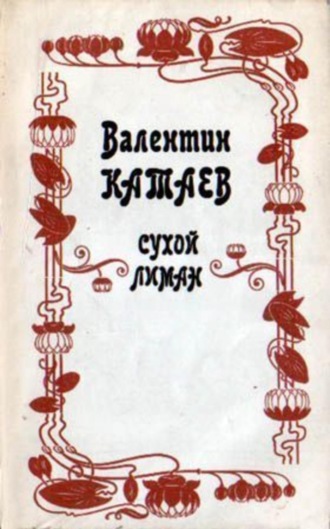
Юношеский роман
– Ну как, моя дорогая, – спросил я, – вода в котелке закипела?
– Вода? А разве она должна была закипеть? – спросила Миньона, сделав большие глаза, и засмеялась, хотя ее смех показался не вполне уместен, так как вода в котелке клокотала и уже выкипела наполовину.
Я вздохнул, снял котелок с огня и бросил в кипящую воду щепотку заварки, добытую у телефонистов путем некоторых унижений. Я расстелил на траве носовой платок, который, к счастью, выстирал рано утром в ручье, положил на него кусок свиного сала, четверть пайковой буханки ржаного солдатского хлеба и десять грудок рафинада. 5* 115
Потом я сбегал в блиндаж, который охранял, захватил шинель, бинокль и единственный сдобный сухарь – высушенный ломоть пасхального кулича, привезенного мной из дома. Шинель я разостлал для Миньоны, сам сел подле нее на траву, и мы принялись за чай.
До сих пор я воображал, что Миньона питается исключительно утренней росой, цветочной пыльцой, лунным светом и запахом фиалок. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что полфунта свиного сала как не бывало! Сдобный сухарь под ее жемчужными зубками перешел в область самых отвлеченных воспоминаний. А опустошенный котелок стоял в траве как надгробный памятник, будя грустные воспоминания о девяти отошедших в вечность грудках рафинада.
Лично я съел кусок черного хлеба, сгрыз последнюю грудку сахара и взглянул на мир еще более оптимистично. Да и можно ли, о читатель, смотреть на мир иначе, когда вокруг нежное, солнечное утро, десять часов, роса на полевых цветах еще не высохла, у ног щебечет ручеек, а рядом с вами очаровательное существо с большими серо-лиловыми глазами, маленькими ручками, еще более маленькими ножками в туфельках номер тридцать четыре и волшебным именем Миньона?
Да-с!
– А теперь поболтаем, – сказала Миньона, облизывая кошачьим, как уже упоминалось, язычком прелестные губки, созданные не для свиного сала, а для поцелуя. – Объясните, где мы с вами сейчас находимся? И почему в то время как идет война, вы болтаетесь здесь без всякого дела? – И в ее голоске прозвучала генеральская нотка.
– О прелестная! – ответил я. – Находимся мы возле города Сморгонь, развалины которого вы видите, если можно так выразиться, на горизонте. А нахожусь я здесь, в непосредственной близости от неприятеля, в качестве сторожа, дневального. Сторожу же я вот эти два новеньких орудийных блиндажа в три наката. Мой взвод – две трех дюймовки – скоро перейдет в эти хорошенькие блиндажики и в должный срок неожиданно ударит по немцам с самой близкой дистанции, и даже, может быть, прямой наводкой, картечью. Через два часа, ровно в двенадцать, меня сменит другой дневальный, и я должен буду возвратиться обратно на батарею…
Она не дослушала и, прижавшись ко мне, с ужасом прошептала:
– Боже мой! Вы меня пугаете. Мы находимся в непосредственной близости от немцев? В таком случае у меня одна надежда на вас. Не оставьте меня!
– О, не бойтесь! Со мной вы как за каменной стеной! – воскликнул я, ловя себя на глупом желании поцеловать ее в шейку.
В этот миг за железнодорожной насыпью тяжело бухнуло, раздался сверлящий свист, и высоко над нашими головами пронеслась немецкая граната. Я по привычке сразу же припал к земле и потянул за собой Миньону. Мы услышали сухой дробный разрыв снаряда, и через некоторое время вокруг нас пропело несколько осколков. Немец стрелял через наши головы по ближнему лесу.
Миньона лежала у меня на руках как убитая. Лоб ее был холоден, а руки горячи. Я растер ей виски платком, смоченным остатками чая. Она очнулась.
– Миньона, дитя мое, – прошептал я, – не бойтесь. Это далеко. Это не опасно. Это обычно.
Она виновато посмотрела на меня.
– Если это обычно, тогда я не буду больше бояться. Я уже не боюсь.
В это время ударил второй пушечный выстрел. На этот раз она не вскрикнула и не упала в обморок. Я сунул ей в руки бинокль «цейс»:
– Смотрите туда.
Она приставила бинокль к глазам и посмотрела туда, куда я ей показывал. До нас долетел грохот взорвавшегося снаряда.
– Ах, как забавно! – восхищенно воскликнула она. – Жаль, что здесь нет моих сестричек. Вот бы тоже полюбовались взрывом.
Пропели осколки.
Потом я повел ее в Сморгонь посмотреть развалины. Ведь в фантастическом романе все может случиться.
Мы долго бродили по грудам обгорелых кирпичей, по запущенным садам, забирались на обгорелые чердаки разбитых снарядами домов. Наломали громадный букет отцветающей сирени. Она посмотрела в сторону полуразрушенного костела, стоявшего как призрак.
– А туда можно? – спросила она.
– Туда нельзя, – почти с ужасом ответил я, вспомнив расколотую раковину кропильницы, поверженное распятие и красное деревянное сердце на грудной клетке мертвого спасителя.
И я обошел костел стороной, как убийца, который преодолевает чувство притяжения к тому месту, где он совершил преступление.
Мы молчали. Между нами как бы стояло видение полуразрушенного храма с поверженным в прах распятием богочеловека. А он был так хорош. А мы были так молоды… Продолжение следует. А. П.».
Продолжения не последовало; моя фантазия исчерпалась. Но главное, конечно, было не в том, что фантазия исчерпалась. Исчерпалась вера в то, что банальная влюбленность в хорошенькую Миньону может вытеснить из моего сердца Ганзю. А на фронте началось уже настоящее, и я впервые понял, что такое война.
«15 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, только что офицер, командующий стрельбой, объявил пятнадцатиминутный перерыв. Голова болит от жары и грохота. На наблюдательном пункте, кажется, Ваш отец вместе со стариком Шеллем. Они ведут стрельбу всей бригадой, то есть всеми шестью батареями сразу, стрельба редкая, но ужасно методичная, упорная, назойливая.
Это, вероятно, последние приготовления перед прорывом немецкого фронта. Так называемая артиллерийская подготовка. Господи, только бы…
Право, кажется, если бы нам удалось прорваться и отнять у немцев ближайшую цель нашего наступления – город Вильно, то не надо мне ничего: ни славы, ни здоровья, ни даже Ваших писем…
Простите, прерываю письмо: надо идти чистить орудие, будь оно трижды… Виноват!… Ей-богу, для нашего брата батарейца страшен не бой и даже не самая смерть, а чистка орудий…
…Ну, слава богу, почистили.
Я весь в орудийном сале и керосине. Время тянется невыносимо скучно. Я ждал жарких боев, передвижений, наступления, атак и прочего. А вместо всего этого скучное стояние на позиции, которую герман обстреливает шестидюймовыми бомбами. На днях пришлось пережить страшный обстрел. Я как раз был дневальным на новой позиции своего взвода. Позиция еще не занята орудиями. Блиндажи еще пустые. Я их охраняю. Но они находятся очень близко от пехотных окопов, всего саженях в двухстах. Так как одному дневалить скучно, то я забрался в окоп к телефонистам штаба батальона, где вместе с пехотными дежурят также и наши артиллерийские телефонисты – мои друзья.
Мы варили суп из молодого щавеля, который в изобилии растет среди развалин Сморгони, а также грели чай на костре. Вдруг нас побросало на землю, и по головам изо всех сил хлопнул упругий выстрел, как бы на один миг окрасивший все вокруг в кроваво-красный цвет. Сразу запахло какой-то химической гадостью. Вроде фосфора. Запах, характерный для немецких тяжелых бризантов. Мы ринулись в окоп спасаться.
А тут – массированный обстрел!
Снаряд за снарядом. Крыша землянки, как назло, жиденькая, тощенькая, всего в два наката. Бомбы ежеминутно рвутся рядом с землянкой.
Грохот… Химический запах… Сумбур в голове… И страх, страх… Даже не страх, а ужас… Непреодолимый, животный. Одна-единственная мысль острым гвоздем стоит в сознании: если немецкий снаряд прямым попаданием угодит в нашу землянку, то не то что убьет, а испепелит, превратит в ничто. И самое ужасное, что ведь, если разобраться, я сам этого захотел, пошел добровольно.
Я смотрю на телефониста. Он бледен. Губы сиреневые. При каждом свисте пролетающего снаряда мы все как по команде втягиваем головы в плечи и для чего-то прижимаемся к земляным стенкам, как будто это может спасти. Бьет лихорадка. Хочется убежать куда-нибудь в более надежное место. Но без разрешения командира мы не имеем права покидать свой пост. За это военно-полевой суд.
Я хватаю телефонную трубку и даю зуммером сигнал: одно тире. Слышу:
– Квартира у телефона.
– Доложите командиру, что штаб батальона под сильным обстрелом шестидюймовых батарей. Что делать? Просим разрешения перейти в укрепленный блиндаж второго взвода.
Медлительная пауза.
– Командир приказал, если возможно, уйти из штаба батальона.
От сердца отлегло. Мы быстро хватаем свой телефонный аппарат, разъединяем провод и бежим как обезумевшие к спасительному блиндажу. Вокруг ад. Фонтаны черной и рыжей земли. Воют осколки. Но вскоре мы уже в сравнительной безопасности. И тут же начинаем с непонятной жадностью есть сало, захваченное в штабе батальона.
(Свое сало солдат ни при каких обстоятельствах не забудет захватить с собой, хотя бы черти тащили его в пекло!)
В блиндаж вкатывается кубарем сверху телефонист-пехотинец. У него как-то странно согнуто тело, глаза дикие, налитые кровью. И жалко, и смешно, и в то же время до ужаса страшно. Он с ног до головы дрожит мелкой дрожью, перепачкан глиной, лоб мокрый от пота. Из трясущихся пальцев валится открытый перочинный нож и кружок черной изоляционной ленты, которой он, видимо, соединял перебитый осколком телефонный провод.
– Вы что? Ранены? Контужены?
Он ничего не в состоянии вымолвить, только продолжает дрожать и плачет. Оказывается, возле него разорвался снаряд, не убил, не ранил, а только подбросил и ударил об землю – и он до сих пор не может опомниться.
В блиндаж вкатывается еще несколько пехотинцев, застигнутых врасплох внезапным артиллерийским налетом. Они все дрожат как в лихорадке, у всех в глазах мольба: жить!
В угол блиндажа попадает бомба. Разрыва я не слышу и прихожу в сознание неизвестно через сколько времени. На меня смотрят несколько пар солдатских глаз. Оказывается, блиндаж не пробит. Счастливая случайность? Может быть. Но мне кажется, что бог наказал меня бессмертием. Он карает меня необходимостью и в дальнейшем участвовать во всем этом мировом безумии, которое я сам накликал.
Я не ранен. Даже не контужен. Душа моя потрясена
Обстрел прекратился.
Но мы все сидим еще полчаса в чудом уцелевшем блиндаже, не в силах унять дрожь, и никак не можем прийти в себя.
…потом тихий летний вечер, трава розовая от закатного солнца, цветы. Березки четко рисуются на фоне заката Через ручей – мостик. На мостике носилки с убитым солдатом. Убитый похож на большую куклу, наряженную в большие сапоги и рваную, окровавленную гимнастерку. Возле носилок стоят, видимо отдыхая, два санитара. Отвернувшись в сторону, они курят цигарки, свернутые из газеты, и сплевывают в ручей. А. П.».
«22 июня 916 г. Д. арм. 19 июня рано утром, часа в три. на рассвете, из телефонного окопа выскакивает старший на батарее:
– Батарея! Приготовь противогазы!
Это что-то новое и очень грозное. Неужели немцы пустили удушливые газы?
Я дневальный и только что собрался смениться и отправиться в землянку спать, Теперь же я бросаюсь вниз по земляной лестнице уже не спать, а будить спящих.
– Ребята, – кричу, – приготовьте противогазы!
Начинается суета, некоторое даже замешательство: впервые надо воспользоваться противогазом. А где эти самые противогазы, обязательное ношение которых до сих пор считалось ненужной формальностью? Противогазы всегда засовывались куда-нибудь подальше, в самый низ походных ранцев или вещевых мешков. Теперь противогазы разыскиваются, извлекаются на свет божий, и их начинают примеривать. Никто толком не умеет с ними обращаться – знали, да забыли.
Я как дневальный, то есть лицо ответственное, среди общего замешательства стараюсь сохранять спокойствие и быть распорядительным. Вместо того чтобы разыскивать свой противогаз и надеть его, приходится расталкивать заспавшихся батарейцев.
Со стороны пехоты слышится быстрый, какой-то непривычно бестолковый, нервный ружейный и пулеметный огонь.
– Батарея, к бою!
Никогда этот, в общем-то, привычный приказ не звучал так тревожно.
В начале войны противогазы были чрезвычайно примитивны: матерчатые наморднички, которые надевались на лицо и завязывались на затылке тесемками. Их следовало смачивать какой-нибудь жидкостью: водой, чаем, а если под рукой ничего не было, то и просто собственной мочой, всегда имевшейся под рукой. Смачивать наморднички мочой считалось даже лучше, так как, дескать, упомянутая жидкость хорошо нейтрализовала ядовитый газ. Но потом на вооружение поступили новые, более усовершенствованные противогазы: жестяные коробки с угольным порошком и резиновым респиратором, через который надо было дышать. Затем имелись очки в жестяной оправе для предохранения глаз, а также особые щипчики, которыми следовало защипнуть нос, чтобы удушливый газ не попал через ноздри в легкие. Щипчики висели на веревочке. Все это надо было долго прилаживать, а между тем огонь на передовой усиливается до шквального.
Нервы дрожат, как натянутые струны. Ведь именно нынче вечером должно было начаться наше наступление. Неужели немецкая разведка пронюхала это и немец упредил нас?
– Противник на участке Аккерманского полка выпустил газы! – раздается отчаянный крик из телефонного! окопчика. – Надеть противогазы!
Мы быстро, но не совсем умело надеваем противогазы, надеваем очки, зажимаем щипчиками носы, прилаживаем ко рту резиновые респираторы. Сквозь мутные, непротертые стекла очков плохо видно, но еще труднее дышать. Сидим как чучела друг против друга со щипчиками на носах, стараясь дышать поаккуратнее. Дверь в землянке распахнута. Лампа, висящая над столом, еще не погашена и горит по-утреннему тускло, как бы утомленно.
Дышать все тяжелее. Тишина. В висках стук. Чувствуешь, как кровь с напряженным шелестом струится по венам и артериям. Сверху в дверь начинает вползать слабый зеленоватый туман. То ли это обыкновенный утренний туман, то ли… ужасная догадка: неужели это и есть тот самый страшный удушливый газ, о котором мы столько слышали?
Но почему-то никому не приходит в голову, что нужно выйти из землянки наверх. Как-то привыкли считать, что в землянке, под тремя накатами безопасней.
Через несколько минут напряженного молчания и сопения кто-то начинает кашлять в респиратор. Канонир Ищенко по прозвищу Старик клонит голову и делает руками какие-то умоляющие знаки. Он задыхается. И никто не знает, что нужно делать, как помочь. Еще несколько человек с хрипеньем опускают головы. Они явно задыхаются. Я же почему-то чувствую себя замечательно. Мой респиратор хотя и хрипит, но довольно хорошо пропускает очищенный воздух.
Но что же делать? Чем разогнать газ, медленно наползающий, мощный, как тяжелая вода, сверху в наше подземелье?
Инстинктивно хватаю из ранца пачку писем мне, зажигаю и кидаю на земляной пол. Огонь и дым. Прощайте, милые письма, полученные мною из тыла от друзей и близких. Они так помогали мне переживать все тяжести войны. А Ваши письма особенно. Я берег их как драгоценность и часто перечитывал. Но что же делать, если другой бумаги не нашлось?
Костер горящей бумаги. Дым и огонь борются с наполняющим удушливым газом.
Старик погибает. Вот он уже лежит на земляных нарах, хрипит и судорожно пытается сорвать со рта респиратор, который, как видно, засорен и не дает дышать. Если сор-пот – верная смерть. Я хватаю его за руки. Мы боремся. По в этот миг сверху раздается крик:
– Батарея, к бою!
Мы выползаем наружу. Я буквально силой выволакивнаю Старика наверх. Все вокруг в газовом тумане. Каждое движение затрудняет дыхание. Но все-таки легче, чем под землей. Взводные передают команду своим орудиям. Их голоса звучат сквозь респираторы противогазов каким-то диким хрипом. Каждое слово для них почти гибельно. По ничего не поделаешь – надо же командовать стрельбой. В этом их подвиг: вести стрельбу во время газовой атаки! От утреннего холода начинает знобить. Хочется лечь па землю и уткнуться головой в траву. Но воинский долг есть воинский долг. Батарея ведет огонь, но работать при орудии невероятно трудно. Забираясь под очки, газ щиплет глаза. Дышать уже почти невозможно. Еще несколько минут – и мы погибнем. Батарейный фельдшер и противогазе проносит на своем могучем плече, как мешок с овсом, кого-то из потерявших сознание. Кто-то обезумевший срывает противогаз, пробегает с кровавыми глазами и кровью из носа и в судорогах падает на землю.
Но батарея, хотя и с трудом, с перебоями, не прекращает огня. Стреляем из последних сил. Почти в бессознательном состоянии я ставлю ключом дистанционные трубки, еле различая цифры на алюминиевом кольце шрапнельной боеголовки.
– Прицел сто тридцать, трубка сто двадцать пять, десять патронов беглых!
Умеренный утренний ветерок медленно рассеивает и уносит шлейф удушливого газа. Старший по батарее отрывает от губ респиратор противогаза, подавая пример и всем нам. Мы с облегчением следуем его примеру.
Но теперь неприятель начинает обстреливать нас восьмидюймовыми снарядами. Первый же снаряд попадает в соседнее орудие, только обломки колес полетели вверх ко всем чертям. Результаты: пять человек контужены, один ранен, четверо еще раньше отравлены газами.
Обстрел батареи продолжается. Снаряды рвутся совсем близко, глушат и притупляют сознание. Мы отвечаем, стреляя до изнеможения, и я уже ничего не чувствую, ничего не сознаю, ничего не боюсь и хочу всем своим существом только одного: тишины, степной южной ночи, сверчков, звездного неба.
По-моему, подобные мысли на батарее, ведущей смертельную дуэль, – признак начинающегося сумасшествия. Но что же делать, если это именно так.
Бой кипит до полудня. Потом отбой. Все батарейцы в изнеможении от усталости. Устали от грохота, от свиста осколков, от газов, от работы при орудии, от ежесекундного страха смерти…
Подсчитываем потери. Уносят раненых. Уводят контуженых. Убитых, как это ни странно, нет. Это сама судьба бережет меня и всех моих окружающих для каких-то неизвестных нам высших целей. Нет, серьезно. Даже странно. Я все время чувствую какую-то свою зловещую неприкосновенность. Теперь бы залезть в землянку и погрузиться в беспамятство сна.
Двое из контуженых еще продолжают лежать в землянке на нарах. Они спаслись от верной смерти просто чудом. Бледны, измучены, истерзаны ужасом, в полуобморочном состоянии. Я стараюсь помочь им чем могу. Но чем могу я им помочь? Я сам еле стою на ногах, наглотался газов, тошнит, в глазах темно. Безумно хочется спать… Но черта с два! Не тут-то было! Изволь носить пустые лотки, подбирать стреляные гильзы, которых накопились кучи, выгружать ящики новых, только что привезенных снарядов и т. д.
Наконец – чистить орудие! А ведь я Вам, кажется, писал, какая это мука!
Производим всю эту работу, собирая последние силы. Но это только так кажется, что последние. Их хватит, этих последних сил, еще на многое… Служба есть служба!
Мимо батареи по шоссе, мимо столетних кутузовских берез проносят носилки с ранеными. Сплошной вереницей тащатся с передовой санитарные и простые обозные повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами и полутрупами пехотинцев, попавших первыми под удушливые газы.
А когда газы дошли с передовой линии до нашей батареи, то их убойная сила почти иссякла. Да и ветерок нам помог. А то бы… И подумать страшно.
…Идут по шоссе в тыл на переформирование, еле передвигая ноги, с трудом таща на плечах винтовки, серые пехотные солдатики с пепельными лицами… и офицеры, пехотные прапорщики, мальчики девятнадцати-двадцати лет, которые еще совсем недавно гоняли голубей, играли в футбол, ухаживали за гимназистками, писали в альбом стихи…
Из дивизиона прибегает телефонист. Оказывается, землянка дивизионного командира разворочена до основания восьмидюймовым снарядом, превращена в яму с водой. Все место вокруг обстреляно специальными снарядами с удушливыми газами; соединение цианистого калия еще с какой-то химической дрянью называется хлорциан. Ветерок приносит со стороны разбитой дивизионной землянки залах, похожий на испарение эфира или чего-то в этом роде. Что-то одуряющее, сладковатое, миндальное, зловещее.
Однако, как это часто бывает, в дивизионной землянке как раз случайно никого не оказалось. Все были на наблюдательном пункте.
Часа два отдыхаем, а потом на батарею приходит приказ: в восемь часов вечера приготовиться к бою и навести орудия по таким-то и таким-то целям, заранее уже пристрелянным.
Солдатский телеграф тут же сообщил, что мы будем наступать на высоту правее дороги, которая проходит как раз рядом со вторым дивизионом нашей бригады. В восемь часов вечера предполагается взорвать минные галереи. Их уже давно втайне от немцев выкопали саперы впритык к неприятельским позициям. После взрыва наша пехота бросится в атаку и попробует выбить ошеломленного неприятеля с высоты, командующей над местностью.
Розово. Закат. Березы. Дула наших трехдюймовок смотрят на багровый диск заходящего солнца. Ни единого звука, кроме неугомонных жаворонков. Синие лампадки васильков.
Васильки – как синие лампадки в алом храме золотой зари.
Что, не нравится? Слишком кудряво? Безвкусно? Согласен. Но ведь каждый миг… Эх, да что там говорить! Где наша не пропадала! Рядом со смертью даже обыкновенная пошлость делается священной. Может быть, это моя последняя мысль?
– Через пятнадцать минут всем укрыться в блиндажи и окопы. Будет взорвана подземная галерея. После взрыва оставаться пять минут в укрытии, а затем номерам занять свои места у орудий. Будет бой. Открывать быстрый в точный огонь. – Таков приказ с наблюдательного пункта, переданный по телефону на батарею.
Все укрываются в блиндажи и с напряжением ловят малейший звук со стороны пехотной линии. Пятнадцать минут проходят. Ожидается страшный взрыв, грохот, землетрясение. Шутка ли? В минную подземную галерею заложено пятьдесят пудов динамита. Но никакого грохота нет. Вместо этого земля вокруг нас начинает потихоньку вздрагивать. Дрожь земли усиливается. Окоп, в котором мы сидим, качается, как корабельная каюта во время крепкой волны. Со стороны пехоты до нас доносится глухой слитный треск ружейной пальбы.
Выскакиваем из-под земли наверх. Взбираемся на земляной отвал окопа. На западе из-за леса поднимаются тяжелые зелено-желто-черные скалистые массы дыма. Они медленно ползут в зенит безмятежно розового закатного неба. Вокруг темно, как в пещере. В ужасающей тишине опять слышится крик фейерверкера:
– Батарея, к бою!
И через миг вокруг нас уже настоящий ад: артиллерийский бой, который много раз уже пытались описать, и всегда неудачно, потому что ни слов подходящих, ни красок таких нет.
Грохот пятнадцати батарей разных калибров сливается с ружейной и пулеметной дробью, сквозь которую слышится отдаленное «ура» пехоты, идущей в атаку. В ушах нечто вроде кузницы.
Смеркается.
Я работаю орудийным номером. Номеров мало, а потому приходится исполнять обязанности за троих: устанавливать дистанционные трубки, заряжать и подносить лотки с унитарными патронами. Лотки тяжелые. Взвалишь на каждое плечо по лотку и бежишь от погреба к орудию.
В ушах стоном стоят надорванные голоса орудийных фейерверкеров, бегающих по батарейной линейке с записными книжками, где записаны цели и прицельные установки.
– По цели номер двенадцать два патрона беглых!… Четыре патрона беглых!…
Почти каждую минуту мое орудие бросает в сгущающуюся темноту багровые полотнища яркого огня, и тогда елочки маскировки вдруг выхватываются из тьмы, словно отлитые из червонного золота, и тут же погружаются во мрак до следующего выстрела.
Из дула прыгающего орудия летит сноп искр.
Я ослеплен и оглушен. Со стороны пехоты «ура» усиливается. Офицер, командующий стрельбой, кричит сорванным голосом, стараясь перекричать грохот боя:
– По телефону передают!… По телефону!… Аккерманский полк!… Передают из пехоты!… Аккерманцы заняли первую линию немецких окопов!… Немецких окопов!… Девяносто восемь немцев взято в плен!… Девяносто восемь!… Захвачено четыре пулемета!…
В душе вспыхивает радость. Впервые я неожиданно для самого себя чувствую поэзию и вдохновение боя.
Батарея работает с удвоенной энергией, ведя огонь безукоризненно точно и быстро. Недаром же наши трехдюймовочки называются скорострельными.
Через час новое сообщение:
– Аккерманцы заняли вторую линию! Высота наша! Немцы отступают!
От восторга я чуть не кричу «ура».
Бой продолжается всю ночь до утра. На рассвете все стихает. Мы ложимся отдыхать возле своих пушек прямо на земле, среди стреляных неубранных гильз и осколков. Сквозь сон слышу, что Аккерманский полк залег между второй и третьей линиями неприятеля. Слава богу! В наказание за газы пленных не брали. Перекололи всех. Так им и надо!








