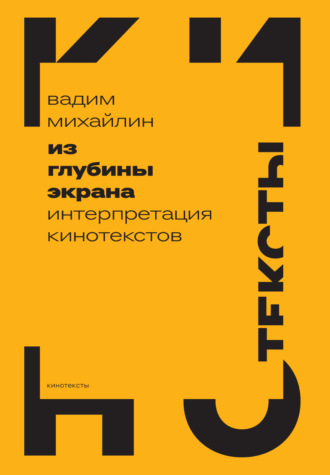
Из глубины экрана. Интерпретация кинотекстов
42
Подробнее об этом см.: Михайлин В. Ю. О ситуативности репутаций: возвращение Одиссея // Отечественные записки. 2014. № 1 (58). С. 52–84.
43
Подробнее об этом см.: Михайлин В. Ю., Беляева Г. А. Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930-х – середины 1960-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 31–32.
44
Самая роскошная в этом смысле серия кадров начинается на 26-й минуте фильма и построена как ритмический контрапункт сцен, в которых Сталин контактирует с женщинами в публичном пространстве (21 декабря 1936 года Сталин одновременно с делегацией жен инженерно-технических работников и хозяйственников легкой промышленности появляется в зале Большого Кремлевского дворца, где проходит заседание Всесоюзной конференции жен командного и начальствующего состава РККА), и назойливо фаллических кадров с парящим в небе дирижаблем. Монтажная перебивка происходит многократно, и почти во всех «человеческих» сценах женщины оказываются включены в те или иные виды эротизированной телесной связи со Сталиным: 1.1. Две молодые дагестанские женщины едва ли не висят на плечах у сидящего за столом Сталина, стыдливо пряча лица от камеры. Одна из них прикасается к лицу. 1.2. Дирижабль. 2.1. Н. К. Крупская (женская ипостась В. И. Ленина) в окружении молодых женщин. 2.2. Дирижабль. 3.1. Сталин за руку здоровается с участниками конференции, протискивающимися по узкому проходу между креслами, причем мужчин в этом потоке постепенно сменяют женщины. 3.2. Дирижабль. 4.1. Сталин (с Калининым на заднем плане) в окружении женщин, которые его трогают. 4.2. Огромный дирижабль. 5.1. Интимный контакт сидящего Сталина со стоящей рядом девушкой, которая надолго задерживает руку на груди Сталина, медленно наклоняется к нему, трогает себя за грудь и за шею. 5.2. Женщина на дирижабле. 6.1. Сталин крупным планом, камера переходит на крупный план женского лица. 6.2. Огромный дирижабль во весь экран. 7.1. Женщина акцентированно трогает губы, здороваясь за руку со Сталиным. 7.2. Женщина на дирижабле. 8.1. Сталин и зрелая женщина, фронтальный статичный кадр в жанре супружеского снимка. 8.2. Огромный дирижабль уплывает из кадра вправо. 9.1. Молодая женщина с ребенком – камера уплывает вправо, как и дирижабль в предыдущем кадре. Таким образом, экфрастическая рамка закрывается, сохраняя в памяти зрителя устойчивый образ Сталина как гиперсамца, и ненавязчиво уводит зрительское внимание к следующей сцене, в которой уже подросший ребенок (девочка в матроске и с букетом цветов) звонким пионерским голосом, стоя спиной к трибуне, где находится уже невидимый Отец, вещает делегатам совещания: «Мы готовимся быть летчиками, танкистами, полярниками, инженерами, педагогами и художниками…» Затем, после бурных аплодисментов, упоминаются дворцы пионеров, кружки и все прочее, что есть у советских детей. И наконец, с застенчивой улыбкой переждав очередную порцию аплодисментов, девочка цитирует последний куплет из стихотворения И. Добровольского «Спасибо Великому Сталину» (1937, положен на музыку Л. Половинкиным): «Небывало радостными стали / Каждый шаг, учеба и досуг, / Потому что наш великий Сталин / Нам, ребятам, самый лучший друг». Последние две строки подхватываются хором детских голосов из зала, что выдает сугубо постановочный характер сцены.
45
О сокращении числа репрезентаций Сталина даже в таких изданиях как «Правда» в первые годы войны см.: Плампер Я. Алхимия власти: Культ Сталина в изобразительном искусстве. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 353, 358.
46
Подробнее см.: Кузнецова В. Судьба развлекательных жанров в годы Великой Отечественной войны. Вопросы истории и теории кино. Вып. 4. Л.: ЛГИТМиК, 1978; Марголит Е. Кино военного периода: поверка исторической реальностью // Марголит Е. Живые и мертвое: Заметки к истории советского кино 1920–1960-х годов. СПб.: Сеанс, 2012. С. 285–308.
47
«Фронтовые подруги» Виктора Эйсымонта, «В тылу врага» Евгения Шнейдера.
48
Еще раз подчеркну: речь идет именно о полнометражных фильмах. Понятно, что «Боевые киносборники» снимались гораздо оперативнее: уже в 1941 году вышло семь выпусков. То же можно сказать и о фильмах-концертах. В 1942 году ситуация несколько меняется, отдельные новеллы «Боевых киносборников» разрастаются в средний метр, как это произошло в случае с «Антошей Рыбкиным» Константина Юдина или «Железным ангелом» Владимира Юренева. Выходит и несколько «серьезных» полнометражных картин, таких как «Секретарь райкома» Ивана Пырьева или «Партизаны в степях Украины» Игоря Савченко, хотя преобладают по-прежнему киносборники, музыкальные и комедийные фильмы.
49
Впрочем, Эрмлер время от времени позволяет себе вернуться к ней даже в картинах, внешне представляющих собой образец сталинского «большого стиля» вроде «Великого гражданина» (1937, 1939), где у экспрессионистской эстетики есть свое отдельное идеологическое задание – подобно тревожной музыке, она сопровождает появление в кадре откровенных врагов.
50
Напомню, что в традиционных культурах патерналистского типа «зоны компетентности и ответственности», сцепленные с гендерными ролями, четко соотнесены с границей «домашнего» пространства. Внутри этой границы приоритетными являются статусно-ролевые иерархии и социальные связи, основанные на кровнородственных отношениях – и при всей значимости фигуры pater familias и других внутрисемейных мужских ролей и статусов, это по преимуществу женская зона ответственности. Социальные компетенции, связанные с более широкими публичными пространствами, имеют принципиально иную природу, подчиняются иной логике и являются законной вотчиной мужчин.
Другой географической реалией (помимо Родины как таковой и Москвы), активно использовавшейся в советской военной пропаганде в «материнских» контекстах была Волга – особенно, по понятным причинам, в период Сталинградской битвы. Подробнее об этом см.: Рябов О. «Отстоим Волгу-матушку!»: Материнский символ реки в дискурсе Сталинградской битвы // Женщина в российском обществе. 2015. № 2. С. 11–27.
51
Именно в 1942 году тема «поруганной матери» становится одной из основных в советском агитационном плакате: «Папа, убей немца!» М. Нестеровой, «Мсти за горе народа!» В. Иванова, «Сын мой! Ты видишь долю мою» Ф. Антонова, «Отомстим! Уничтожим фашистских людоедов!» И. Рабичева и др. Девушки и дети также занимают значимое место, но материнский образ остается приоритетным и продолжает тиражироваться даже в 1944 году, когда основная часть оккупированных территорий уже вернулась под контроль СССР («Смерть немцам-душегубам!» Д. Шмаринова). В 1943 году Сергей Герасимов заканчивает первый вариант своей канонической картины «Мать партизана».
52
Актриса Нина Алисова, получившая за «Радугу» Сталинскую премию первой степени в 1946 году – наряду с Марком Донским и Наталией Ужвий, исполнительницей роли пленной партизанки Олены Костюк.
53
Сам перечень продуктов строится так, чтобы у зрителя сложилось ощущение, что «фашистская тьма» уже успела накрыть собой не только оккупированные части родной советской земли, но и весь остальной мир: борьба с врагом тем самым автоматически перемещается в сугубо манихейскую и сотериологическую перспективы.
54
Еще одна особенность этого образа – он навязчиво сексуализирован. Все остальные женские тела подчеркнуто лишены этой характеристики – даже в случае с пленной партизанкой, которую в литературном первоисточнике немцы гоняют по деревне, а потом бросают в сарае совершенно нагой. Режиссер одевает героиню в длинную сорочку и продуманно ставит такую пластику и выбирает такие ракурсы, чтобы совершенно изгнать любой намек на сексуальность: работа идет с образом матери, и никакие эротические контексты здесь неуместны. Ср. с совершенно противоположными установками при создании пропагандистского мифа о Зое Космодемьянской. Уже в первой статье о девушке-мученице (Лидов П. Таня // Правда. 1942. 27 января) употребляются красноречивые фигуры умолчания («Никто в точности не знает, каким еще надругательствам и мучениям подвергалась Татьяна во время этих страшных ночных прогулок…»), поминаются трусики героини, а первое, что бросается в глаза на сопровождающей текст фотографии эксгумированного тела Зои Космодемьянской, – ее обнаженная правая грудь, случай, беспрецедентный для советской газеты 1940-х годов (Виктор Дени, использовавший эту фотографию в качестве изобразительной основы для плаката «Убей фашиста-изувера!» (1942) как раз правую грудь прикрывает). Аналогичная апелляция к эротическому аффекту используется и в плакатной традиции первых лет войны: достаточно вспомнить о взаимодействии текста и изобразительного ряда на плакатах Федора Антонова «Боец Красной армии! Ты не дашь любимую на позор» (1942) и Владимира Соколова «Балтиец! Спаси любимую девушку от позора. Убей немца!» (1941).
55
Актриса Елена Тяпкина.
56
Актер Дмитрий Капка.
57
Возможно, сам композиционный принцип позаимствован у Алексея Венецианова, у которого он работает в картине «На пашне. Весна» (нач. 1820-х). Впрочем, понятно, что никакой сверхусложненной, ориентированной на масонскую традицию символики, характерной для «русских» работ Венецианова, у Шурпина нет. Подробнее о масонской символике у Венецианова см.: Михайлин В., Беляева Г. «В начале вещей ни невинности, ни наивности нет»: художник А. Венецианов у истоков русского национального типажа и пейзажа // Новое литературное обозрение. 2018. № 6 (154). С. 154–172.
58
Подробнее об этом см. в главке «Масштаб и иерархия элементов» в: Михайлин В., Беляева Г., Нестеров А. Шершавым языком: антропология советского политического плаката. Саратов; СПб.: ЛИСКА, 2013.
59
О вытеснении военной травмы см. в: Добренко Е. Поздний сталинизм: эстетика политики: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Т. 1. С. 54 и далее.
60
Не стоит воспринимать сталинскую визуальную культуру как примитивизированную и неспособную к формированию усложненных символических высказываний, несводимых к поверхностно-аллегорическим, «плакатным» тропам. Связь с традицией барокко касалась не только чисто внешних изобразительных эффектов. Впрочем, предшествующий разговор о подчеркнуто суггестивных монтажных склейках в «Колыбельной» Дзиги Вертова и о работе с символическими аспектами образа матери в «Радуге» Марка Донского уже должен был подготовить почву для восприятия позднесталинской символической многозначительности, которая в перспективе – как это не парадоксально – станет одним из неявных источников позднесоветской тяги к этакой декадентской эзотеричности.
61
Более подробному анализу этой картины посвящена целая глава в уже упоминавшейся книге: Михайлин, Беляева. Скрытый учебный план…
62
На сей раз актриса была удостоена за исполнение этой роли Сталинской премии первой степени за 1948 год, в отличие от роли в фильме Фридриха Эрмлера, за которую получила Сталинскую премию второй степени в 1946 году. Обеим премиям предшествовали еще и награждения орденом Трудового Красного Знамени (в 1944 и 1947 годах соответственно).
63
Первая публикация: Михайлин В. Locus amusos: «особый путь» колониального и постколониального дискурса в отечественном кино // Новое литературное обозрение. 2020. № 6 (166). С. 474–491.
64
В этой связи см.: Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми: сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 1861–1914. М.: Новое литературное обозрение, 2006; Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013; Михайлин В. Раб как антропологическая проблема: взгляд из России // Доминирование и контроль. Интерпретация культурных кодов 2017. Саратов: ЛИСКА, 2017. С. 3–55.
65
Особенно в позднесталинской культуре с ее активно возрождаемой национально-имперской риторикой.
66
См.: Cockrell D. Demons of Disorder: Early Blackface Minstrels and Their World. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Strausbaugh J. Black Like You: Blackface, Whiteface, Insult & Imitation in American Popular Culture. New York: Jeremy P. Tarcher; L.: Penguin Books, 2006; Hartman S. V. Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America. N. Y.: Oxford University Press, 1998; Inside the minstrel mask: readings in nineteenth-century blackface minstrelsy / Ed. by A. Bean, J. V. Hatch and B. McNamara. Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1996.
67
Более подробный анализ пародийного переосмысления колониальных особенностей «Алитета» в расширительном контексте, предполагающем масштабы уже не Чукотки, а всей Советской России, см. в: Михайлин В., Беляева Г. Если не будете как дети: деконструкция «исторического» дискурса в фильме А. Коренева «Большая перемена» // Неприкосновенный запас. 2013. № 4 (90). С. 245–262. О фольклорной традиции, связанной с этим фильмом, см.: Михайлин 2016a.
68
Фильм не был доснят до конца и выпущен на экраны. Единственная копия погибла во время войны. В 1962 году на основе обоих вариантов сценария и отдельных кадров, сохраненных Э. Тобак и П. Аташевой, С. Юткевич и Н. Клейман воссоздали своеобразный «фотоконспект» кинокартины, позволяющий судить о некоторых ее идеологических, символических и собственно визуальных особенностях.
69
«Эйзенштейн додумался до того, что даже начальника политотдела изобразил человеком с неподвижным лицом, с огромной бородой и поступками библейского праведника. Отца пионера Степка – подкулачника и ярого классового врага – он наделил не чертами реального врага, а чертами мифологического Пана, сошедшего с полотен художника-символиста Врубеля» (Шумяцкий Б. О фильме «Бежин луг» // Правда. 1937. 19 марта).
70
Более подробный анализ «Великого гражданина» см. в: Михайлин В., Беляева Г. «Вы жертвою пали»: феномен присвоения смерти в советской традиции // Отечественные записки. 2013. № 5 (56). С. 294–310.
71
О гибридной идентичности см. прежде всего: Bhabha H. The Location of Culture. L.: Routledge, 1994.
72
И это единственный в картине персонаж не-азербайджанец, хотя азербайджанцев играют актеры самых разных национальностей – гречанка, крымский татарин…
73
Пользуясь терминологией, предложенной Ильей Кукулиным (Кукулин И. «Внутренняя постколонизация»: формирование постколониального сознания в русской литературе 1970–2000 годов // Политическая концептология. 2013. № 2. С. 149–185).
74
То есть, собственно, это пространства «гибридной идентичности».
75
Подобные же операции производятся и на уровне «метрополии», но зачастую именно на основании «предварительной обработки данных» в промежуточных инстанциях. Условно говоря, главным информатором касательно нравов, свойственных горским «обществам», а также инстанцией, хотя бы отчасти определяющей их дальнейшую интерпретацию, является не местный чабан, а говорящий по-русски (и ориентированный на собственные стратегии взаимодействия как с одноплеменниками, так и с представителями метрополии) местный же чиновник или учитель.
76
«По щучьему велению» (1938), «Василиса Прекрасная» (1939), «Конек-Горбунок» (1941), «Кащей Бессмертный» (1945). Дополнительно экзотизированный «украинский» вариант дает «Майская ночь, или Утопленница» (1952).
77
«Богатая невеста» (1937), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «Кубанские казаки» (1949).
78
«Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940).
79
В данном смысле единственное исключение дают «Веселые ребята». В 1932–1934 годах, когда шла работа над картиной, жанр сталинской музыкальной комедии еще не устоялся – собственно, «Веселые ребята» и мыслились в качестве пробного шара, попытки перенести голливудский жанр на советскую почву. Григорий Александров, как раз в 1932 году вернувшийся из почти трехлетнего творческого турне по Европе и США, куда вместе с Сергеем Эйзенштейном и Эдуардом Тиссе ездил «присматриваться» к звуковому кино, фактически и снял картину сугубо голливудскую, с минимальными поправками на советские реалии. Фильм прошел с колоссальным успехом, и жанр прижился, несмотря на резкое неприятие со стороны наиболее пуристской части партийного истеблишмента (нарком просвещения Андрей Бубнов, зампред Комиссии советского контроля Николай Антипов) – после того, как были внесены необходимые коррективы. Подробнее см.: Салис Р. «Нам уже не до смеха»: Музыкальные комедии Григория Александрова. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
80
Весьма любопытно выглядит в этой связи логика монтажа последних сцен фильма. После разноязыкой колыбельной, которая, вне зависимости от прямого идеологического задания, выглядит как парад колониальных субъектов, и общего сбора действующих лиц и статистов в нижней части сценической лестницы, уходящей в заэкранные выси, сцена подвергается едва ли не алхимической возгонке и переносится из игрового, волшебного циркового пространства в пространство воистину сакральное, в котором происходит сакральное же действо: парад на Красной площади. Это пространство обставлено знаками присутствия в престижном и праздничном контексте (кремлевские башни, флаги) и осенено незримым присутствием Власти – при том, то сама трибуна Мавзолея в кадр не попадает. Впрочем, незримая Власть не забывает напомнить о себе как экранным персонажам, так и зрительному залу. Демонстранты несут в кадре огромные портреты Сталина и Ворошилова: все стороны имеют наглядную возможность оценить сопоставительные масштабы и пространственно выраженную иерархию вовлеченных в сцену субъектов.
81
Вместе со всеми своими «экзотическими» атрибутами, само наличие которых зачастую оказывается более значимым, нежели их уместность и ситуативная адекватность. Так, в еще одном классическом сталинском фильме, в «Кавалере Золотой Звезды» (1950) Юлия Райзмана, родственники главного героя, вернувшегося после войны в родной кубанский колхоз, говорят на двух разных, но в равной степени «колониальных» вариантах русского языка. Украинцу Даниилу Ильченко, который играет отца, имитация «суржика» дается без труда, в то время как польке Марии Яроцкой (мать) проще выстраивать буколический образ через условный театральный «крестьянский говор», москвичка Тамара Носова (сестра) подчеркнуто «чокает». При этом сам протагонист, несмотря на то что исполнителю этой роли Сергею Бондарчуку, родившемуся в херсонской глубинке, было бы легче легкого перейти на украинские интонации, изъясняется на подчеркнуто правильном «актерском» русском языке. Ему как носителю цивилизаторской миссии внешние признаки субалтерна категорически противопоказаны.
82
Степан Каюков.
83
См.: Larsson J. Greek Nymphs: Myth, Cult, Lore. N. Y.: Oxford University Press, 2001.
84
В этот список имело бы смысл внести и колхозно-совхозное крестьянство, но как раз его труд заменить было нечем и некем, а потому обретенный им в сталинскую эпоху специфический статус, сопровождаемый поражением в ряде гражданских прав и свобод (относительно жесткая прикрепленность к земле, отсутствие общегражданских документов, специфические режимы оплаты труда и т. д.) сохранялся на протяжении всего оттепельного – а отчасти и постоттепельного периодов.
85
«В добрый час!» (1956) Виктора Эйсмонта, «Беспокойная весна» (1956) Александра Медведкина, «Это начиналось так» (1956) Якова Сегеля и Льва Кулиджанова, «Кому улыбается жизнь» (1957) Левона Исаакяна и Ерванда Цатуряна, «Дом, в котором я живу» (1957) Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Рядом с нами» (1957) Адольфа Бергункера, «Высокая должность» (1958) Бориса Кимягарова, «Дорогой мой человек» (1958) Иосифа Хейфица, «Отчий дом» (1959) Льва Кулиджанова, «В степной тиши» (1959) Сергея Казакова, «Дорога уходит вдаль» (1959) Анатолия Вехотко, «Люди на мосту» (1959) Александра Зархи, «На диком бреге Иртыша» (1959) Ефима Арона, «До будущей весны» (1960) Виктора Соколова, «Бессонная ночь» (1960) Исидора Анненского, «Аленка» (1961) Бориса Барнета, «Горизонт» (1961) Иосифа Хейфица, «Карьера Димы Горина» (1961) Фрунзе Довлатяна и Льва Мирского, «Мой младший брат» (1962) Александра Зархи, «Коллеги» (1962) Алексея Сахарова и т. д.
86
См.: Кларк К. Советский роман…
87
«Звероловы» (1958) Глеба Нифонтова, «Огонек в горах» (1958) Бориса Долинова, «Неотправленное письмо» (1959) Михаила Калатозова, «Все начинается с дороги» (1959) Николая Досталя и Вилена Азарова, «Ждите писем» (1960) Юлия Карасика, «Карьера Димы Горина».
88
«Сыновья идут дальше» (1958) Загида Сабитова («Узбекфильм»), «Мы из Семиречья» (1958) Алексея Очкина и Султан-Ахмета Ходжикова (Алма-Атинская киностудия), «Второе цветение» (1959) Латифа Файзиева («Узбекфильм»), «Дорога жизни» (1959) Хуата Абусеитова (Казахфильм), «Зуб акулы» (1959) Шалвы Гедеванишвили («Грузия-фильм», восточная страна и борьба за свободу), «Девушка Тянь-Шаня» (1960) Алексея Очкина (Фрунзенская студия художественных фильмов) и т. д.
89
«Лавина с гор» (1958) Василия Журавлева, «В степной тиши» (1959) Сергея Казакова («Мосфильм»), «Люди голубых рек» (1959) Андрея Апсолона (но на тувинском национальном сценарном материале, с тувинскими актерами, композитором и т. д. – если бы в Туве были соответствующие «мощности», фильм, несомненно, сняли бы там).
90
«Его время придет» (1957) Мажита Бегалина («Ленфильм», Алма-Атинская киностудия), «Григорий Сковорода» (1959) Ивана Кавалеридзе (к/ст им. А. Довженко), «Олекса Довбуш» (1959) Виктора Иванова (к/ст им. А. Довженко), «Судьба поэта» (1959) Бориса Кимягарова («Узбекфильм»), «Сын Иристона» (1959) Владимира Чеботарева («Ленфильм», но с осетинским сценарием, актерами и т. д.), «Токтогул» (1959) Владимира Немоляева («Киргизфильм»), «Фуркат» (1959) Юлдаша Агзамова («Узбекфильм»), «Юлюс Янонис» (1959) Балиса Браткаускаса и Витаутаса Дабашинскаса (Литовская киностудия) и т. д.
91
«Млечный путь» (1959) Исаака Шмарука, «Отчий дом» (1959) Льва Кулиджанова, «Неоплаченный долг» (1959) Владимира Шределя, «Домой» (1960) Александра Абрамова, «Высокая должность» (1958) Бориса Кимягарова, «Полустанок» (1963) Бориса Барнета, в каком-то смысле «Коллеги» (1962) Алексея Сахарова.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

