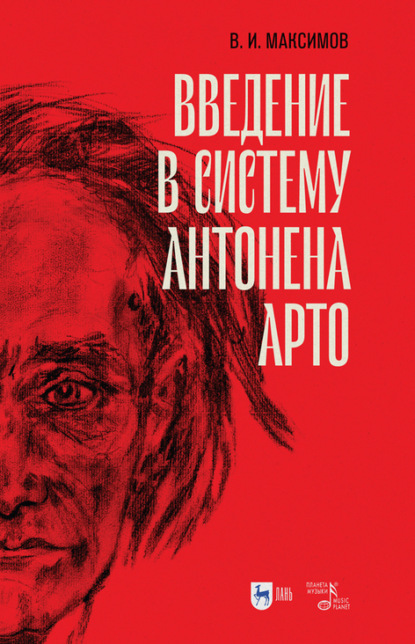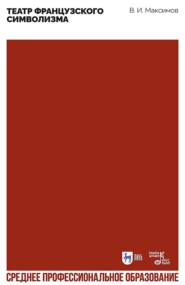По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в систему Антонена Арто
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подлинная сущность не может раскрыться в реальности, Искусство переносит человека в мир свободы и этим раскрывает возможности его поступков[22 - Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 236.].
То, что к концу XX века уже не вызывает недоумения, во времена Арто воспринималось с трудом. Повседневность воспринималась либо как отражение сущностного мира (символизм), либо как единственная реальность (позитивизм), либо как материал для преображения творческой индивидуальностью (сюрреализм). Арто предложил нечто совсем иное: подлинная реальность объективно существует, но она не имеет никакого отношения к тому повседневному произволу, где господствует обыденная логика; подлинная реальность заключена в самом человеке, но она раскрывается в нем только через свободное изъявление внеличностного содержания.
Таким образом, Арто решительно выступает против современного «миметического» понимания искусства, то есть его способности подражать жизни. Но это вовсе не значит, что Арто противоречит принципу мимесиса в его аристотелевском понимании: искусство «подражает» внечеловеческой ноологической сущности, а не бытовым формам жизни.
Создав развернутый образ чумы как пример обнаружения этой жестокой реальности, Арто максимально расширяет границы образа. В этом ему помогает не кто иной, как Аврелий Августин Блаженный, который также использовал образ чумы как болезни, разрушающей душу. Арто приводит цитаты из основного сочинения Августина— «Града Божьего», написанного под впечатлением разграбления Рима ордами варваров под предводительством Алариха в 410 году. В своем сочинении Августин противопоставляет два вида человеческой общности: духовную общность «Града Божьего», построенного на любви к богу, и обыденную плотскую общность «града земного», построенного на себялюбии и корысти.
Христианский философ, в отличие от Арто, клеймит театр, как проявление язычества. Арто цитирует его слова, направленные против античных богов:
…все сценические игрища и непристойные спектакли были учреждены в Риме не из-за порочности людей, но по приказу ваших богов. Было бы более разумным воздать божественные почести Сципиону, нежели подобным богам; конечно они не стоили своего верховного жреца!.. Чтобы усмирить чуму, убивающую тела, ваши боги требуют в свою честь устройства сценических игрищ, а ваш верховный жрец, желая избежать чумы, развращающей души, противится строительству сцены (IV, 32).
Августин имеет в виду Публия Корнелия Сципиона Насику, прозванного «Corculum» («Разумный»). В 159 году до н. э. он был избран цензором, а в 155 году до н. э. консулом Римской республики. В это же время по решению городских властей стало впервые возводиться театральное здание. Сципион Насика добился постановления сената о разрушении строящегося театра как «вредоносного для римских нравов». Представления, как и прежде, разыгрывались на театральных помостах. Только через сто лет, в 55 году до н. э., был построен первый в Риме театр Помпея.
Активное неприятие Августином античного театра идет в русле общей борьбы отцов церкви первых веков христианства с формами языческого искусства. Причины этого понятны, однако следует помнить, что ко времени Августина основные трагические и комические жанры давно прекратили свое существование. То, что называлось театром, представляло собой либо развлекательные и жестокие зрелища, либо незначительные малые формы. Возможно, у Арто имеет место перекличка отрицания театра Августином с его собственным неприятием современного ему театра. Но главная причина обращения к Августину иная.
Августин объявляет действие театра столь сильным, что страсть охватывает людей, делая их безумными. Чума поражает тело, считает теолог, театр поражает душу, его воздействие более опасное и неотвратимое. Августин
относит театр к предметам, вредным для человеческой души, возбуждающим ненужные и беспричинные страсти[23 - Бычков В. В. Aesthetica Patrum. Эстетика Отцов Церкви. Т. I. М., 1995. С. 456.],
– считает современный исследователь христианской эстетики. Арто, конечно, не принимает разрушительной оценки театрального воздействия, но для него важно, что даже Августин признает эту неведомую силу:
Августин Блаженный в своей книге ни на миг не подвергает сомнению реальность такого колдовства. При определенных условиях можно вызвать в сознании человека зрелищные образы, способные его околдовать, – и здесь дело не только в искусстве (IV, 33).
Арто через Августина Блаженного максимально расширяет границы идеи театра, но вместе с тем подводит читателя к стержневой проблеме театра (театра в широком понимании), к проблеме, которой будет посвящена вторая часть сборника. Если пораженный болезнью человек – материализация хаоса, то мир, наполненный конфликтами и катастрофами, представляется Арто также пораженным болезнью. Но оказывается, это лишь формальное воплощение хаоса, а не результат творческой стихии. Описываемая ранее чума – нечто иное, это чума, в которой заключена идея театра. Болезнь, «проходя через театр», разряжается, хаос уступает место гармонии. Болезнь мира излечивается через чуму театра.
Внешние события, политические конфликты, природные катаклизмы, программность революции и хаос войны, проходя через театр, разряжаются в чувствах тех людей, которые смотрят на них, будто захваченные эпидемией (IV, 32).
Для искоренения болезни необходима не микстура, необходим очистительный огонь, пожарище чумного города. Теперь Арто утверждает, что сходство чумы и театра не ограничивается тотальным воздействием на массы внебытовой логикой стихии.
В театре, как и в чуме, есть нечто победное и мстительное одновременно. Стихийный пожар, который чума разжигает на своем пути, очевидно, не что иное, как безграничное очищение.
Полный социальных крах, органический хаос, избыток порока, какое-то всеобщее заклинание демонов, которое теснит душу и доводит ее до крайности, – все это говорит о наличии предельной силы, в которой живо сходится вся мощь природы в тот момент, когда она собирается совершить что-то значительное (IV, 33).
Такая характеристика еще пока не названной, лишь в общих чертах обрисованной «предельной силы» указывает на основное понятие артодианского театра – Жестокость. Болезнь мира излечивается Жестокостью, ее очистительным огнем. И хотя слово «жестокость» еще не прозвучало в книге, Арто готовит читателя именно к нему. Чтобы противостоять обыденному миру с его жестокой логикой и изолированностью человека, необходимо не противопоставление ему, а преодоление через решительный волевой поступок, требующий «предельной силы».
Жестокость – многогранное понятие Арто, требующее отдельного рассмотрения, но уже очевидно, что оно – адекватная реакция на жестокость мира. Эта вселенская жестокость, лежащая в основе мироустройства и показана в статье «Театр и чума». Такое видение не является уникальным, наоборот, оно чрезвычайно распространено в первой трети XX века. Подобная характеристика встречается в поэзии уже упомянутого нами Николая Гумилева, которая интересна еще и тем, что воспринимается поэтом тоже в театральном аспекте. Я имею в виду прежде всего известное стихотворение Н. Гумилева «Театр».
Мир предстает здесь грандиозным театральным представлением, на котором все – «смешные актеры». Трубят ангельские трубы и каждый играет свою роль в рамках того спектакля, который заказали зрители – Господь Бог и Дева Мария. Божественные зрители сверяются с либретто – не вышел ли кто за границы предназначенного ему амплуа («Гамлет? Он должен быть бледным. ? Каин? Тот должен быть грубым…») А далее:
Жаль, если Каин рыдает,
Гамлет изведает счастье!
Так не должно быть по плану!
Чтобы блюсти упущенья,
Боли, глухому титану,
Вверил он ход представленья.
Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сетью,
Всех, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.
Н. Гумилев, в отличие от Арто, однозначно определяет первопричину такого мироустройства – божественный порядок, построенный на жестокости и принуждении. И эта жестокость мира не знает пределов, продолжает усиливаться («Множатся пытки и казни…»). Развитие мира держится только на наличии боли и кровавой плети, управляющей желаниями, судьбами и историческими процессами. Физическое ощущение истории роднит Н. Гумилева и Арто.
Заканчивается стихотворение грандиозным вопросом, подобно безответному вопросу Сальери в конце «Маленькой трагедии» Пушкина. У Н. Гумилева:
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!
В вопросе явственно просматривается необходимость прекращения этого божественного порядка. Тревога возникает не от боли и несправедливости, а от ощущения бесконечности раз и навсегда заведенного порядка. Конечно, у Н. Гумилева нет того адекватного противодействия жестокости, которое все время подразумевается в книге Арто, но с какой поэтической точностью создан образ жестокого мира-театра. Идея театрализации жизни, существенная для Н. Гумилева, Н. Евреинова и многих художников начала XX века, для Арто естественна и не акцентируется нисколько. Зато разрушение «божественного» миропорядка возможно для Арто только через Театр, а не через, например, революцию, как полагали сюрреалисты.
Поэтому примером Жестокости, противостоящей жестокости мира, становится в «Театре и чуме» драматургическое произведение. Трагедия яркого представителя позднего английского Возрождения Джона Форда «Как жаль ее развратницей назвать», известная в континентальных странах под названием «Аннабелла», органично воспринимается на фоне костров чумы, описанных в статье, и становится первым прообразом крюотического театра:
Ясно, что страстный пример Форда – всего лишь символ гораздо большей по масштабу и чрезвычайно важной работы (IV, 37).
Пьеса Джона Форда, написанная в 1633 году, стала одной из главных причин яростных нападок пуритан на театр, хранивший традиции высокого ренессансного искусства. Борьба эта закончилась закрытием лондонских театров в 1640-е годы и завершением великой театральной эпохи. Хотя действие пьесы разворачивается в католической Италии, утверждающее новые ценности буржуазное сознание не могло смириться с появлением на сцене героев, отдающихся своей любви, невзирая ни на какие моральные обстоятельства. Читателям 1930-х годов «Аннабелла» была хорошо известна, так как существовала в переводе Мориса Метерлинка, выполненном в 1895 году для постановки О.-М. Люнье-По в символистском театре Эвр.
Метерлинк акцентировал в пьесе мотив ожидания смерти, столь близкий его творчеству, и преображения человека в трагической ситуации. Арто, типологически продолжающий символизм, акцентирует в пьесе другие моменты – проявление нескольких типов жестокости, в частности, жестокости как «акции протеста». Джованни, главный герой пьесы, любящий непреодолимой взаимной любовью свою сестру Аннабеллу, становится для Арто воплощением героического (и жестокого), оправдывающего любые действия против лживого мира. Любовь создала их друг для друга и противиться этой стихии они не в силах. Кроме того, важен мотив слияния преступления и благодеяния, извращения и подвига. Преступление, совершаемое Джованни и Аннабеллой, становится основой страсти, страсти очищающей. Для пьесы характерно противопоставление обыденной реальности, с ее кровавостью, миру людей, сметающих любые преграды на пути очищающей страсти.
Несколько сюжетных линий трагедии – своеобразного шедевра жанра «кровавой драмы» – сплетаются в тугой узел бесконечных заговоров, измен, убийств, отравлений. Это мир, где каждый грешен (включая алчного кардинала и подразумевая папу), каждый обречен на преступление, которое, в свою очередь, рождает следующее. Преступление Аннабеллы и Джованни, внешне подобное другим, имеет иную природу. Их любовь – протест миру «повседневных» преступлений, их любовь – та сила, которая этот мир разрушит.
По мысли Арто, Джованни – существо, призванное направить все свои силы на протест против заведенного миропорядка.
Оно ни минуты не колеблется, ни минуты не сомневается и этим показывает, сколь мало значат все преграды, которые могут возникнуть у него на пути. Оно преступно, но сохраняет геройство, оно исполнено героизма, но с дерзостью и вызовом. Все толкает его в одном направлении и воспламеняет душу, нет для него ни земли, ни неба, – только сила его судорожной страсти, на которую не может не ответить тоже мятежная и тоже героическая страсть Аннабеллы. «Я плачу, – говорит она, – но не от угрызений совести, а от страха, что не смогу утолить свою страсть». Оба героя фальшивы, лицемерны, лживы, во имя своей нечеловеческой страсти, которую законы ограничивают и стесняют, но которую они смогут поставить выше законов (IV, 35).
Говоря о пьесе Форда, Арто определил ее уникальное место среди елизаветинской драматургии: изначальная порочность и лживость ситуации (любовь брата и сестры, вступление Аннабеллы в брак, чтобы скрыть рождение внебрачного ребенка) оборачиваются утверждением высшей духовности. В финальных сценах, где любовники обличены, развязка конфликта очевидна, но герои делают все, чтобы максимально усугубить трагическую развязку и свои страдания. Через кровавые события развязки, через самоуничтожение героев искупается изначальная порочность мира.
Аннабелла, согласившаяся выйти замуж за Соранцо, не в состоянии скрывать свою любовь. Унижения и оскорбления, обрушившиеся на нее, вызывают у Аннабеллы лишь презрение к своим палачам. Она находит способ сообщить возлюбленному о грозящей опасности, но, несмотря на предупреждение, он устремляется в логово врага. Джованни приходит на торжество, зная, что это ловушка. Влюбленные клянутся, что они найдут друг друга после смерти. Джованни закалывает сестру, затем он приходит на пир с кинжалом, на острие которого наколото сердце Аннабеллы, затем убивает Соранцо, а сам погибает от руки слуги Васкеса с именем Аннабеллы на устах. Джованни
сумеет подняться над местью и преступлением благодаря новому преступлению, страстному и неописуемому, он преодолеет страх и ужас благодаря большему ужасу, который одним махом сбивает с ног законы, нормы морали и тех людей, у кого хватает смелости выступить в качестве судей (IV, 36).
Трагедия Форда «Как жаль ее развратницей назвать» стала для Арто моделью пьесы для крюотического театра. Задача драматургии видится Арто следующим образом:
Настоящая театральная пьеса будит спящие чувства, она высвобождает угнетенное бессознательное, толкает к какому-то скрытому бунту, которым, кстати, сохраняет свою ценность только до тех пор, пока остается скрытым и внушает собравшейся публике героическое и трудное состояние духа (IV, 34).
Высвобождая бессознательное, такая пьеса – и театр в целом – «завладевает действием и доводит его до предела», то есть заставляет работать сознание таким образом, что оно откликается на подсознательные действенные модели, таящиеся в глубине сознания. Они становятся понятны, и театр говорит со зрителем на языке глубинных взаимосвязей.
Помимо общеупотребимого абстрактного понятия «образ», Арто вводит новое понятие – «символ-тип». Театр, считает Арто,
вновь обретает понимание образов и символов-типов (symboles-types), которые действуют как внезапная пауза, как пик оргии, как зажим артерии, как зов жизненных соков, как лихорадочное мелькание образов в мозгу человека, когда его резко разбудят. Все конфликты, которые в нас дремлют, театр возвращает нам вместе со всеми их движущими силами, он называет эти силы по имени, и мы с радостью узнаем в них символы. И вот пред нами разыгрывается битва символов, которые бросаются друг на друга с неслыханным грохотом, – ведь театр начинается только с того момента, когда действительно начинает происходить что-то невозможное и когда выходящая на сцену поэзия поддерживает и согревает воплотившиеся символы (IV, 34).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: