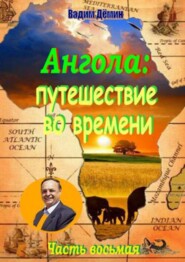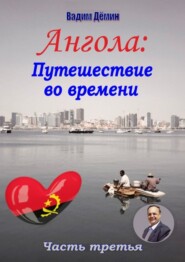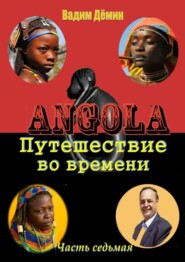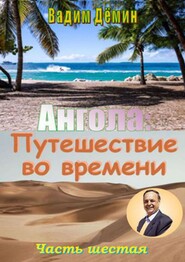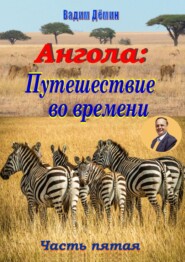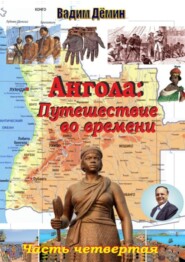По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По следу «Серого». Автобиографическая повесть (книга первая)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Командиры рот доложили начальнику штаба батальона о построении личного состава и когда через несколько минут на плац вышел и сам командир батальона, начштаба скомандовал:
– Батальон, смирно! Равнение на середину!
Комбат вызвал к себе ротных. Десять минут он инструктировал о чем-то офицеров. Мы же, вытянув по-гусиному шеи, тщетно пытались уловить хоть одно слово.
– Стать в строй! – приложил руку к головному убору комбат, а затем отдал указание начальнику штаба: – Личный состав – по подразделениям. Вооружение, имущество сложить на место!
Мы недоумевали, что могло стать причиной нашего подъема по тревоге? Нет, учеба здесь ни при чем. Что-то другое. Скорее всего, это было как-то связано с теми событиями, которые происходили в то время на фронтах, а в частности, под Сталинградом. Может, нас хотели послать именно туда, а затем передумали? Догадки не покидали нас.
7 ноября 1942 года в части состоялось очень важное мероприятие – митинг, посвященный 25-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Выступающие говорили о своей решимости сражаться с фашистами на любом участке фронта, отдать свои жизни ради победы над врагом. И это были не пустые слова – все мы чувствовали, что пока враг топчет нашу землю, наши жизни не принадлежат нам.
Затем мы слушали по радио репортаж о военном параде на Красной площади. Голос Левитана звучал как всегда торжественно и уверенно. Мы представляли себе, как, печатая шаг, шли вдоль трибуны войска и мощь нашей армии – боевая техника: танки, реактивные установки «Катюши», самоходные установки, автомашины с пушками и минометами на механической тяге.
Эвакуированные в восточные районы страны оборонные заводы к концу 1942 года не только полностью восстановили свои объемы производства, но и стали работать с многократным перевыполнением плана. В целом производство военной продукции в 1942 году по сравнению с 1940 годом на Урале увеличилось более чем в пять раз, в районах Западной Сибири – в 27 раз, в районах Поволжья – в девять раз.
Если же говорить о конкретных видах вооружения и техники, то увеличение их производства в ноябре-декабре 1942 года по сравнению с аналогичным периодом 1941 г. выглядело так: танков в – 2 раза (несмотря «на прекращение производства танков на Харьковском заводе в связи с эвакуацией, а также на Сталинградском заводе танкостроения), танковых дизель-моторов – в 4,6 раза, артиллерийских систем – в 1,8 раза, пулемётов – в 1,9 раза, винтовок – на 55% (несмотря на эвакуацию крупнейших тульских заводов, производивших стрелковое вооружение, крупных 120 мм минометов – почти в 5 раз, артиллерийских снарядов – почти в 2 раза, авиационных снарядов – в 6,3 раза, мин – в 3,3 раза (в том числе производство 120-мм мин возросло в 16 раз), реактивных снарядов – в 1,9 раза, авиабомб – в 2,1 раза, ручных гранат – в 1,8 раза, патронов нормальных и крупного калибра – более чем в 1,8 раза[17 - Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – М.: Госполитиздат, 1948.].
Так отвечал советский тыл на призыв вождя Советского Союза товарища Сталина вооружить Советскую Армию передовой военной техникой.
Ровно год тому назад, когда враг стоял у стен Москвы, состоялся точно такой же парад. Теперь другая опасность нависла над нашей страной – фашисты под Сталинградом. И мы верили, что настанет час, и вся эта нечисть будет трусливо бежать не только с берегов великой русской реки – символа русского народа, нашей страны, но и с позором будет изгнана за ее пределы, как это когда-то было с Наполеоном.
Готовилось величайшее сражение на Волге…
8 ноября начались занятия в школе сержантского состава. Я был отобран для обучения в ней. Но, проучившись ровно месяц, мне пришлось прервать курс. И не только мне одному…
1 декабря 1942 года весь наш 300-ый стрелковый полк НКВД, а вместе с ним и школа сержантского состава были вновь подняты по тревоге, и мы в пешем порядке выдвинулись в направлении железнодорожной станции, той самой, на которую мы когда-то впервые прибыли. Там под парами уже стояли несколько составов, готовых в любой момент отправиться от перронов.
Приказом Наркома внутренних дел СССР №002642 от 03.12.1942 полки бригады были расформированы, бригада переформирована. Вместо трех полков в ее состав вошли «номерные» отдельные стрелковые батальоны. Отныне новые штаты выглядели так:
– управление бригады, штаб бригады, политотдел бригады;
– 226-ой отдельный стрелковый батальон;
– 227-ой отдельный стрелковый батальон;
– 228-ой отдельный стрелковый батальон;
– 229-ый отдельный стрелковый батальон;
– 230-ый отдельный стрелковый батальон;
– отдельный батальон боевого обеспечения.
Сразу же после переформирования, 13 декабря 1942 года во исполнение приказа НКВД СССР №0211 от 05.12.1942 года бригада в полном составе убыла в действующую армию под Сталинград в оперативное подчинение начальника войск НКВД по охране войскового тыла Донского фронта.
Первоначально было принято решение направить нас под Сталинград для пополнения знаменитой 10-ой дивизии войск НКВД. Об этом мы случайно узнали от офицеров. Но затем это решение было переиграно, и туда был направлен только офицерский состав, а остальная часть полка погрузилась в вагоны.
Итак, мы были снова в пути. В этот раз мы двигались в сторону Москвы.
Воинский эшелон – не пассажирский поезд, двигающийся строго по расписанию. Он может целый день идти без остановок, а на другой – «кланяться» каждому столбу, а то и вовсе простоять в тупике или на запасном пути – все зависело от того какова была категория или литер срочности эшелона.
В первую очередь в сторону фронта пропускали составы с боевой техникой, оружием и боеприпасами, затем – с личным составом воинских частей, направляемых на передовую для прорыва вражеской обороны противника или решения другой стратегической задачи. И только после этого – все остальные эшелоны.
В дороге мы были лишены даже самых элементарных удобств. А в зимнее время неизбежно появлялись хлопоты с заготовкой топлива для печек «буржуек». Тот уголь, который мы получили на путь следования, давно сгорел в жерле. По правилам, снабжением топливом, продовольствием в пути следования занимались военные коменданты станций. Но представьте, что творилось в их кабинетах, когда на основных и запасных путях скапливалось по несколько составов. И все начальники эшелонов требовали обеспечить их в первую очередь. Одним надо было продовольствие, другим – топливо, третьим – фураж для лошадей, четвертым…
И у каждого на руках – приказы вышестоящих штабов с требованиями пропускать эшелон в первую очередь.
А что делать, если состав остановился в чистом поле, да вдобавок ко всему должен простоять там несколько часов или суток? Где доставать там топливо? А зима брала свое, она не спрашивала, есть ли у тебя уголь или нет?
…На наше счастье, на подъезде к станции Старожилово, что в полусотне километров от Рязани, нам навстречу заходил товарняк с углем. Он встал бок о бок с нашим эшелоном. Удалось (по договоренности с «соседями») позаимствовать у них немного уголька и запастись им на весь оставшийся путь следования.
500-километровый перегон от Тамбова до Москвы мы, по нашим подсчетам, должны были преодолеть за полтора суток. Но наши хозяйственники выдали нам сухой паек на трое суток, и мы вначале подумали, что произошла ошибка. И только потом стало ясно, что ошибки не было. Все было рассчитано точно. Следовательно, на станцию назначения мы должны были прибыть к исходу третьих суток.
Стоял декабрь 1942 года. Советские войска, проведя успешно контрнаступление под Сталинградом, готовились ко второй части Сталинградской наступательной операции.
Разгромив противника, прикрывавшего фланги ударной группировки – румынских 3-ю и 4-ю армии, – войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов развили наступление по сходящимся направлениям на Калач, Советский, где они окружили 22 немецко-фашистских дивизии.
Войска противника предприняли попытку деблокировать окруженную группировку, но были разгромлены в ходе Котельниковской операции. Затем последовала операция «Кольцо» войск Донского фронта, когда в ходе ее остатки 6-ой немецко-фашистской армии во главе с ее командующим – генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом-91 тыс. человек – сдались в плен.
Туда, в самое пекло Сталинградской битвы и шли непрерывным потоком эшелоны с оружием, боеприпасами, техникой и живой силой. Вне всякой очереди.
Естественно, наш состав с «необстрелянными», вчерашними школьниками, продвигался значительно медленнее, чем остальные и ждал своей участи, пока другие, более нужные, на больших скоростях проносились мимо нас.
– Ну что, Володя, отогрелся? – подсел к Воронину его друг Миша Кузнецов. – Бери-ка в руки двухрядку и сыграй нам что-нибудь повеселей, а то некоторые из нас уже в спячку ударились. Разбуди их!
Приятно дышала жаром «буржуйка», заправленная дармовым углем от души. А что для солдата надо? Чтобы был сыт, одет, обут и всегда в тепле. И еще немного песен в грустные минуты.
Дважды Воронину повторять не надо было.
– На солнечной поляночке
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь. —
послышались слова первого куплета. Ее сразу же узнали бойцы и подхватили:
– Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил…
После фатьяновской «Поляночки» спели «Синий платочек», «Моя любимая», «Три танкиста».
Конечно, слово «спели» звучало громко, так как многие не знали еще полностью слов всех песен, оттого солировал только Володя, а остальные только подхватывали припев.
Все удивлялись, откуда он их столько знал? А секрет был прост: Воронин, будучи очень любознательным по натуре человеком, и к тому же, обладая хорошей музыкальной памятью, не оставлял без внимания ни одну понравившуюся ему песню или мелодию, которые он слышал по радио или в исполнении кого-либо из бойцов.
Он записывал их на обрывках бумаги, а потом воспроизводил на слух по памяти, посвящая разучиванию песен несколько вечеров подряд.