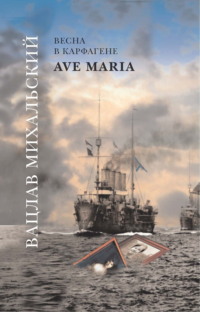Весна в Карфагене
– Антон Павлович!
Вождь уже отъехал метров на пятьдесят и не мог слышать ее шепота, однако он почему-то обернулся и чуть приподнял над плечом руку в знак то ли приветствия, то ли прощания.
А племя текло мимо. Шли десятки женщин с веретенами, прикрепленными к поясу, и на ходу пряли пряжу. На нескольких белых верблюдах были роскошные цветные шатры с гаремом; гнали овец, черных коз, сотни бурых верблюдов несли на себе шерстяной город; совершенно голые дети покачивались в огромных медных блюдах под сенью какого-то подобия навесов; шли старухи с клюками, ехали старики на маленьких осликах, бежали трусцой все новые и новые стада белых овец и черных коз, а за ними своры собак и замыкающие всадники с бичами.
– Будем считать, что нам повезло, – глядя вслед последнему всаднику, сказал доктор Франсуа. – Это очень воинственное племя, у них лучшие лошади во всей Сахаре, они богаты и коварны, как никто другой.
– Надо же, а у вождя совсем европейское лицо и даже пенсне, – сказала Николь.
– Ну и что? Я не исключу, что он в молодости окончил Сорбонну, – усмехнулся доктор Франсуа, – но это ничего не меняет.
Поехали дальше, а Машенька все размышляла о том, как природа рождает двойников, и вдруг у нее мелькнула удивительная, дикая мысль: "А если Чехов не умер, а сбежал из этого Баденвейлера в Сахару, то ему сейчас всего шестьдесят три года… очень похоже. А почему бы и нет, а?! Он поднял руку! Как он поднял руку! Почему же я не смогла его окликнуть, почему вдруг пропал голос? А может, так нужно? Да, значит, так нужно. Кажется, гроб с телом в Москве не открывали. А как он приподнял руку! И, кажется, блеснул серебряный перстень. Вдруг на том перстне та же надпись: "Одинокому везде пустыня"? Скорее всего именно так и есть, так и есть…"
Лейтенант дал команду строиться в походную колонну, и вскоре они двинулись в путь. А кочевое племя тем временем быстро уходило к горизонту и становилось все меньше и меньше, пока не сжалось в небольшой темный клубочек. Откинувшись на высокую спинку седла и опустив поводья, Машенька размышляла о Чехове – она отдавала себе отчет в том, что все, что она себе воображает, конечно же, беспочвенные фантазии, но все-таки… У них в семье был культ Чехова. Как говорила мама: "В России есть люди Пушкина и Чехова, а есть люди Достоевского. Мы – люди Чехова". Сейчас под палящим солнцем Сахары Машенька вспоминала о том, что ведь и Чехов тоже в неполные шестнадцать лет остался один на один с миром и пребывал в одиночестве почти до девятнадцати лет, пока не поступил в университет, не приехал в Москву и не воссоединился со своим многочисленным семейством[57]. Это были три самых таинственных года в жизни великого писателя. А Таганрог в те времена был город непростой: его купцы торговали зерном со всей Европой, порт кишел иностранцами, таганрогские меценаты-греки позволяли себе и горожанам такую роскошь, как городской оперный театр[58].
ХХХIХ
За эти несколько месяцев Николь задарила Машеньку платьями, бельем, обувью, костюмами для верховой езды, для тенниса, для плавания, всевозможными заколками и гребенками, каждая из которых стоила денег, достаточных для недельного прокормления десятка кадетов Севастопольского морского корпуса в Джебель-Кебире. У Машеньки, появившейся в губернаторском доме почти в чем мать родила, стало так много нужных и ненужных вещей, что в гардеробной комнате Клодин отвела для нее отдельный шкаф.
Платья-амазонки были, конечно, великолепны, но в них Машенька не чувствовала себя в седле так ловко, как в лосинах, – с детства она привыкла ездить верхом по-мужски, обхватив обеими ногами круп коня, а не боком, как того требовало платье-амазонка. На сей раз она предпочла темно-серые лосины и легчайшую светло-серую блузу. Ей очень шел серый цвет, еще дядя Паша говорил об этом, тем более что и конь у нее был серый с легкими палевыми побежалостями по животу и широкой груди. А гонка предстояла нешуточная, ведь Николь настоящая сорвиголова! За ней не каждый угонится. Не каждый…
– Но мы-то попробуем, а? – задорно спросила Машенька, подходя к своему невысокому в холке, но ладно сбитому коньку под удобным для дальней дороги арабским седлом с высокой спинкой.
На каменистой белой площадке за воротами Николь уже нетерпеливо пригарцовывала на своем сером в яблоках рослом красавце Сципионе[59] под седлом с алой бархатной обивкой, расшитой золотыми нитями, с уздечкой в мелких серебряных галунах с золотыми насечками.
– На-ка, Феденька, на, моя лапонька, сахарку! – сказала Машенька по-русски, протягивая кусочек колотого сахара к лошадиной морде.
Ах, как любила Машенька этот момент, когда Фридрих[60], кося карими, бездонными, мягко светящимися глазами, обведенными, словно тушью, короткими черными ресничками, нежно и доверчиво брал у нее с ладони кусочек сахара и, едва шевеля сухими, чистыми губами, хрумкал им с достоинством и удовольствием. А как чудно пахла его шелковистая кожа! А как любил он, когда Машенька поглаживала его плоский лоб, крутую шею, чесала за маленькими ушами!
– Он сыт, Муса? – приветливо улыбнувшись, спросила Машенька старого конюха-араба в красной феске, белой накидке и ярко-голубых шароварах.
У нее были самые дружественные отношения с конюхами на губернаторской конюшне. Ее все знали, и она помнила всех по имени – и людей, и лошадей. Что же касается Фридриха, то она частенько приходила расчесывать ему гриву и заплетать косички, как заплетала когда-то в Николаеве своему коню Абреку; не гнушалась взять лопату и почистить у Фридриха в стойле, взять скребок и поскрести коня. Конюшим все это очень нравилось, и они относились к Машеньке с неподдельным уважением.
– Да, мадемуазель Мари, он сыт, – приосанившись, отвечал конюх, передавая Машеньке поводья. – Сыт, но не перекормлен, и напоил его я как следует!
– Шукран[61]! – сказала Машенька, левой ногой вставая в стремя с золотой насечкой и перекидывая правую ногу не через высокую заднюю спинку,
а ловко пронося ее впереди себя над лукою седла и головой коня.
– Ну, догоняй! – звонко крикнула ей Николь и пустила с места в карьер своего затомившегося на предзакатном солнцепеке красавца Сципиона.
Николь любила называть лошадей своей конюшни громкими именами римских императоров и полководцев, именами цариц и фараонов, наверное, это льстило ее самолюбию бывшей опереточной дивы. Лошадей она обожала и холила. Особое внимание Николь уделяла сбруе и седлам, она даже ездила специально к владетельным царькам различных арабских племен, чтобы выяснить, кто чем богат в этом отношении. Она ничего не копировала, но брала ото всех то, что нравилось, а художественного чутья и вкуса ей было не занимать. При конюшне она специально держала выписанную из Алжира семью мавра, мастерового по серебряному и золотому шитью, по изготовлению всякого рода хитрых роскошеств для седла и сбруи. Мавр был Мастер милостью Божией, так что скоро Николь утерла нос многим своим конкурентам. И не столько из-за ценности ее хороших, чистокровных, но далеко не выдающихся скакунов, сколько из-за оригинальности и красоты седел и сбруи на них за Николь вдруг закрепилась слава держательницы одной из лучших конюшен в Северной Африке.
Было шесть часов пополудни, белая лента дороги еще слепила глаза. Николь на своем Сципионе оторвалась от Машеньки на ее Фридрихе метров на триста, и казалось, что догнать ее не представляется возможным. Машенька не горячила скакуна, он и так знал свое дело. Маленький Фридрих был вынослив, как мул и тщеславен, как верблюд, он терпеть не мог, чтобы на дороге кто-то маячил впереди него. Каким-то непостижимым образом расстояние между длинноногим красавцем Сципионом и несравненно более скромным в экстерьере Фридрихом I Барбароссой неумолимо сокращалось.
На последнем километре пути, когда с вершины плато, по которому они скакали, уже стал отлично виден белый хребет мыса Бланко, похожий на обглоданный остов огромной рыбы, лежащей хвостом на берегу, а головой в море, Николь стала нервно оглядываться и нет-нет да и стегать своего стратега плеткой. Машенька ни разу не ударила Фридриха, а только шептала исступленно-ласково над его заплетенной в косички гривой:
– Давай, Феденька! Поднажми, Феденька! Давай-ка мы их обставим! Давай!
Фридрих вряд ли что-нибудь слышал, потому как поток встречного ветра, который он возбуждал своим стремительным движением, в ту же секунду относил Машенькины слова далеко за его взмокшую спину, и они оседали вместе с клубами белой пыли где-то там, на придорожных кустах, а вернее сказать, на крепеньких столбиках алоэ.
А вон и показалась из-за белокаменной гряды оранжевая палатка, установленная на пляже, почти у самой кромки легкого кружевного прибоя, а метрах в трехстах от этой оранжевой палатки другая палатка защитного цвета, стреноженные лошади охраны возле нее и силуэты солдат за ними. Как ни противилась Николь, как ни возмущалась, а губернатор решительно обязывал свою женушку совершать все сумасбродства и фокусы только под охраной его личной гвардии.
Когда кони вылетели на прибрежный песок, между ними еще оставалось метров семьдесят. На тяжелом песке Фридрих взял свое моментально – он не обогнал Сципиона, но когда Николь остановила того и подняла на дыбы, маленький Фридрих висел у них на хвосте. Машенька тоже подняла его на дыбы, и на какую-то секунду Фридрих I Барбаросса и стратег Сципион картинно зависли над синей гладью Тунисского залива.
– А вы молодцы, почти догнали! – покровительственно похвалила Николь, соскакивая с коня.
– Да, чуть-чуть осталось, – тоже соскакивая на мокрый песок, миролюбиво согласилась Машенька, а сама подумала: "Еще бы два десятка метров, и был бы на хвосте твой Сципион, а не мы с Феденькой!"
Лошади запалились, тяжело поводили мокрыми боками, и они пустили их нерасседланными прогуляться по берегу моря.
– Пусть отдышатся, – сказала Николь, – смотри, как у них бока ходят! Они почти в мыле! Еще бы километр, и, точно, оба были бы в мыле! Так, посмотрим, что тут у нас в палаточке! – Николь, а за ней и Машенька влезли в палатку, разбитую, как всегда, специально для них.
Палатка была довольно просторная и высокая, с войлочным полом, покрытым холстиной. В палатке их ждали, как обычно, махровые простыни, большие длинные подушки, на которые было очень удобно облокачиваться, блюда с виноградом, персиками, винной ягодой, вода в бутылке и стаканы, на белой салфетке несколько кусочков колотого сахара для лошадей.
– Все-таки что ни говори, а хороший у меня муженек, а?!
– Правда, хороший, – искренне подтвердила Машенька. – Наверное, любая может мечтать о таком…
– Только не ты…
– Только не я, это правда. Клянусь, мне никто не нужен!
– Ой, не клянись, Мари-и-и, – лукаво протянула Николь. – Как сказано в Писании: "Не клянись, ибо не пропоет петух и три раза, как ты нарушишь клятву!"
– Это не обо мне, это об Иуде! – резко ответила Машенька, и глаза ее блеснули в полутьме палатки.
– Ладно, поживем – увидим! – засмеялась Николь. – Давай раздеваться.
Они разделись, не стыдясь друг друга, и нагие вышли из палатки, прихватив каждая по кусочку сахара. Свистнула Николь. Свистнула Машенька. Послушные кони, тяжело разбрасывая из-под копыт песок, подскакали к ним на расстояние вытянутой руки – каждый к своей хозяйке. Николь угостила сахаром своего Сципиона, Машенька своего Фридриха. Потом они умело расседлали и разнуздали коней, а седла и сбрую положили на сухой песок у палатки, куда не доставали набегавшие с легким шорохом слабенькие волны спокойного в этот час Тунисского залива.
– Хороший мастер, как красиво смотрится серебряная нить на фиолетовом бархате! – воскликнула Николь, притрагиваясь к высокой спинке седла Фридриха. – Не зря я выписала этого мавра из Алжира.
– Да, мне тоже очень нравится, – согласилась Машенька. – Сочетание неожиданное и такое благородное!
– Это он для тебя постарался, он тебя любит, – сказала Николь. – Как узнал, что седло для твоего коня, так и постарался. Тебя все любят. – Николь взглянула на Машеньку с нежностью и материнским участием.
– Спасибо, – смутилась Машенька, и ей вспомнился старый лысый мавр[62] с темным лоснящимся лицом. Представила, как сидит он в тени под навесом конюшни на маленькой складной скамеечке за маленьким, обтянутым шершавой замшей верстачком и вышивает по бархату золотой или серебряной нитью. И в зависимости от того, какая нить в игле, такой и моток заткнут у него за ухом, то ли золотой, то ли серебряной нити. Мавр всегда радуется приходу Машеньки на конюшню и при виде ее всегда вскакивает и торопливо кланяется, отчего моток ниток падает у него из-за уха на землю, и они оба, мавр и Машенька, весело смеются, и этот общий смех как бы роднит их на минуточку, делает своими людьми. Скорее всего моток ниток выпал из-за уха мавра случайно лишь в первый раз, а потом мавр проделывал этот номер нарочно, чтобы повеселить Машеньку да и себя порадовать милой паузой среди однообразного рабочего дня.
– Ну что, поплыли? – спросила Николь.
– Поплыли.
Николь была мастерицей на всякого рода экстравагантные выходки и развлечения. Морские купания на конях в чем мать родила были одной из лучших ее выдумок.
Солнце стояло над заливом довольно низко, но еще слепило глаза, так что если охрана и пыталась разглядеть нагих Николь и Машеньку, то могла видеть лишь их угольно-черные силуэты. Губернаторша продумывала свои забавы весьма тщательно, хотя и не чуждалась импровизаций. Сначала Машенька с опаской поддерживала Николь в ее затеях: мало ли чего она выкинет? Но постепенно убедилась в том, что, кроме сумасбродства, Николь обладает врожденным чувством такта и никогда не переходит грань, за которой может быть ущемлено ее, Машенькино, достоинство и целомудрие. Машенька видела, что Николь привязалась к ней не на шутку, и это вызывало в ней ответное чувство глубокой, почти родственной приязни и к Николь, и к Клодин, и к доктору Франсуа, и даже к генерал-губернатору, хотя с последним они общались довольно мимолетно – генерал уезжал на работу рано утром, возвращался поздно вечером, часто бывал в разъездах по вверенной ему провинции. Что касается генерал-губернатора, то, наверное, он был человек незаурядный, но эту свою незаурядность не спешил обнаруживать. Он всегда говорил простыми, нераспространенными предложениями, больше похожими на команды, чем на связную речь, всегда улыбался, часто невпопад, всегда выслушивал людей, не перебивая, что можно было принять как за доказательство пытливого ума, так и за то, что сказать собеседнику ему было нечего. Как шутя учила когда-то Машеньку мама: "Молчи – за умную сойдешь". Совет был беспроигрышный. Возможно, и губернатора научила тому же его мама, ведь мамы бывают даже у губернаторов. Ему еще не исполнилось и сорока лет, а он уже не первый год был губернатором, так что скорее всего у него были какие-то таланты. В чем сей закрытый, застегнутый на все пуговицы господин был действительно талантлив, так это в любви к своей жене Николь. Он любил ее так, что это ослепляло окружающих. Нет, он не сюсюкал, не мурлыкал, не заискивал, не раболепствовал. Он любил. И это почему-то было понятно каждому, кто видел их вместе, будь то солдат, офицер, женщина из арабской семьи, где все по-другому, или владетельный царек, содержатель гарема; было понятно каждому и вызывало щемящее чувство зависти и безотчетной тревоги. Даже сам маршал Петен и тот вдруг однажды сказал губернатору:
– Как вы умеете любить – я горжусь вами!
– Да, мне повезло, – отвечал губернатор.
– Тем, кто умеет любить, я бы оказывал политическое доверие, – продолжал маршал со смешком в голосе. – Да, да, именно политическое доверие. Франция нуждается в способных любить. Любая страна нуждается…
Машенька невольно подслушала этот разговор, и он запомнился ей на всю жизнь. Так уж получилось, что она проходила мимо кабинета губернатора, а дверь была приоткрыта, а маршал, как человек, чуточку глуховатый, говорил громко. Потом в течение долгой и бурной жизни она не раз убеждалась в правоте маршала Петена. Тот, кто умеет любить, – стоит доверия. А люди, не способные к этому высшему чувству, не способны и ко многому другому, на них нельзя положиться, потому что они пустые, они всегда могут дрогнуть в последний момент.
Кони вошли в воду и встали боком к берегу, так чтобы всадницам было удобно вскочить на них с более высокого места.
– Опля! – ловко взлетела Николь на своего рослого Сципиона.
– Опля! – вскрикнула Машенька, которой было гораздо проще вспрыгнуть на ее низкорослого Фридриха.
Кони попятились, развернулись головами к морю и стали медленно входить в воду, осторожно ощупывая ногами каменистое дно. О, как божественно омывала вода сначала ступни ног, голени, колени, бедра, а когда лошади вышли на глубину и поплыли, то легонькие гребешки волн подкатывались под грудь, щекотали плечи, шею. Как дико и радостно было сидеть на крупе коня, обхватив его голыми ногами, какой сладостной дрожью отзывались в теле мощные движения лошадиных ног, гребущих под себя воду! Коням было не хуже наездниц, они купались в свое удовольствие.
– Как хорошо! – звонко крикнула Николь от переполняющей ее душу радости обладания жизнью.
– Как хорошо! – вторила ей по-русски Машенька.
– Смотри, какое солнце! – крикнула Николь, указывая на огромный диск солнца, в середине ярко-красный, а по краям почти розовый. – Еще десять минут, и оно утонет в море! – Николь ловко встала на спину своего Сципиона и подняла вверх руку, как бы приветствуя этот прекрасный мир.
Машенька последовала ее примеру, и некоторое время они стояли так на спинах плывущих лошадей и салютовали радостям жизни и солнцу, что опускалось все ниже и ниже к горизонту.
– Алле-гоп! – вдруг вскрикнула Николь, кидаясь головой в море.
– Алле! – нырнула вслед за ней Машенька.
А кони, освободившиеся от наездниц, с удовольствием повернули к берегу – силы в них много, но пловцы-то они слабенькие.
Поныряв вволю, Николь и Машенька поплыли рядом.
– А мы порядочно отплыли, смотри, какие палатки маленькие, – сказала Николь.
– Да нет, – возразила Машенька, – здесь самое большее – метров двести, просто с воды все кажется дальше.
– Ой, смотри, а солнца остался краешек! – обернувшись, сказала Николь. – Давай наперегонки, давай попробуем доплыть до берега, пока оно не сядет, не утонет совсем.
– Давай!
– Слушай, Мари, я хочу подарить тебе Фридриха.
– Ты что? Я не могу принять такой подарок!
– Не валяй дурака! – засмеялась Николь. – Все равно все будет твое, не сегодня, так завтра! – Она нырнула и мощно поплыла под водой, чтобы успеть к берегу до темноты.
Машенька не придала значения ее последним словам, тоже нырнула, раз, другой, третий и так, нырками, чуть не догнала Николь, выходившую на берег, как Афродита из пены морской.
XL
После морских купаний на конях и приготовленной для нее Клодин ванной с благовониями и растирками, Машенька спала, не шелохнувшись. А под утро ей приснился неприятный сон. Приснилось, будто папа Николь, тот самый, что, с ее слов, был золотарем в Марселе, едет со своей вонючей бочкой, и не где-нибудь, а по Садовой улице ее любимого города Николаева, едет среди бела дня прямехонько мимо их адмиральского дома с колоннами и фасадом цвета топленого молока (у Машеньки до сих пор в ушах стоит, как добивалась мама от маляров нужного оттенка: "Цвета топле-ного мо-ло-ка! Вы что, не видели топленое молоко?"). Так вот, едет этот золотарь из Марселя, и мало того, что его двуколка противно скрипит, запряженный в нее грязно-белый мерин тяжеловесно цокает по мостовой, а бочка скверно пахнет, так вдобавок ко всему безобразию папаша Николь орет дурным голосом на всю улицу, да еще по-русски:
"Но-о, Лорд, но-о, скотина! Ходи веселей!" – Орет и звучно хлопает вожжами по крупу своего старого мерина.
– К богатству! – решительно сказала Клодин, выслушав Машеньку. – Сон к богатству – это как дважды два!
– А воняет-то до сих пор… – Машенька потянула носом.
– Да, подванивает, – подтвердила Клодин. – Сейчас выветрится. На кухне канализация засорилась, пробивали.
– А-а, понятно, – улыбнулась Машенька. – Вот и все мое богатство…
– Нет-нет, канализация здесь ни при чем. Раз я сказала, к богатству – значит, к богатству! Сон в руку! Могу с вами поспорить хоть на сто франков! – протараторила Клодин и хитро улыбнулась какой-то своей тайне.
– Что это вы, мадемуазель Клодин, так таинственно улыбаетесь?
– Да так, – смутилась Клодин, – так просто… Мадам Николь уехала в Бизерту. Его высокопревосходительство на службе. Сегодня у нас званый ужин.
– Это еще в честь чего?
– Не знаю, – уклончиво отвечала Клодин и поторопилась выйти из комнаты.
– Все-то вы знаете, мадемуазель Клодин, без вас здесь и муха не проле-тит! – добродушно бросила ей вслед Машенька и не стала задумываться о предстоящем званом ужине.
Званых ужинов она навидалась еще с малолетства столько, что они не были для нее чем-то поражающим воображение. Ну, съедется, как и у них в Николаеве, местная знать, ну, будут стоять с умным видом группками по углам огромной гостиной, потом стучать вилками и ножами, охать "как вкусно!", мужчины станут говорить длинные речи с претензией на остроумие, а дамы в это самое время шушукаться между собой о форме рукавов, которые вот-вот войдут в моду – "в Париже уже носят"; потом будут танцы в бальном зале, а старики засядут за карты и станут рассуждать о политике, о том, кто куда назначен в правительстве Франции, кого бы пора в отставку и т. д. Потом будет обязательное музицирование, и Машенька с Николь исполнят пяток хорошо удающихся им на два голоса неаполитанских песен, а под занавес обязательно «Баркароллу» Оффенбаха. При этом аккомпанировать им на рояле, и весьма неплохо, будет сам губернатор. Нельзя сказать, что все подобное уже наскучило или претило Машеньке, нет, правильнее будет заметить, что она усвоила это все так четко, что оно отскакивало у нее от зубов, как вызубренный урок. Так-то оно так, но, в общем, довольно странно, что вчера Николь ни словечком не обмолвилась ни о каких торжествах. Наверное, вдруг приехала какая-то шишка из Парижа, и губернатор распорядился о сегодняшнем званом ужине только вчера вечером. Ладно, посмотрим, что там за шишка, что за ужин, и кто зван, и в честь чего? А пока лучше книжечку почитать, пойти сейчас в библиотеку и выбрать что-нибудь для души. Так она и сделала.
Библиотека в губернаторском доме была большая и бестолковая, здесь на полках все стояло вперемежку: рыцарские романы, энциклопедии, словари, труды Цицерона, Аристотеля, Платона, книги по искусству, по артиллерийскому делу, по навигации, несколько Библий в дорогих переплетах, такие же роскошные тома Блаженного Августина "Град земной" и "Град Божий", дешевые издания современных авторов, которых "не касалась рука человека", – все они стояли даже неразрезанные; был и обычный набор французской классики XIX века: Гюго, Стендаль, Бальзак, Додэ, Флобер, Мопассан, в основном тоже неразрезанные, не читанные никем и никогда. Неожиданно в глаза Машеньке бросился розовый томик Чехова в бумажной обложке, Машенька тут же выхватила его из ряда других книжек, взяла с полки костяной нож, разрезала несколько листков, пробежала глазами несколько абзацев из «Степи» – нет, читать Чехова по-французски было досадно и даже как-то щекотно, приходилось хихикать невпопад, в переводе частенько получалось что-то вроде: "Княжна Ванюшка сидела под развесистой клюквой". "Книги, Маруся, надо читать в оригиналах, особенно хороших писателей, – помнится, говорила ей мама, – а при переводе хороший писатель теряет гораздо больше, чем плохой, потому что хороший писатель – это всегда полутона, то самое неуловимое «чуть-чуть», без чего нет настоящего искусства". Как всегда, дорогая мамочка была права, Машенька поставила на место томик Чехова и взяла "Госпожу Бовари" Флобера. Мама хвалила эту книгу, но прочесть ее в России Машенька не успела. А издание у них дома было то же самое, точно в таком же темно-сиреневом муаровом переплете с золотым тиснением фамилии автора на обложке и на круглом корешке, так что, взяв в руки книжку, на какую-то секунду Машенька остро почувствовала себя дома, в Николаеве, в своей домашней библиотеке. Однако чувство это быстро прошло, можно сказать, пролетело, словно дуновение ветра, и снова вокруг была чужбина, пока еще добрая, сытная, даже веселая и обнадеживающая, но все-таки чужбина. Машенька примостилась тут же, в библиотеке, на кушетке, застеленной львиной шкурой, у высокого венецианского окна с приоткрытыми створками, сбросила туфли, подобрала под себя ноги и села так уютно, по-домашнему, а потом и прилегла калачиком, облокотясь на подголовник, и побежала глазами по буковкам, из которых складывались слова, строчки, абзацы, и оживал целый мир французской северной провинции XIX века… В глухом нормандском углу, среди забытых Богом ферм и городишек, Эмма Руо выходила замуж за овдовевшего врача Шарля Бовари, чтобы стать известной всему миру госпожой Бовари.