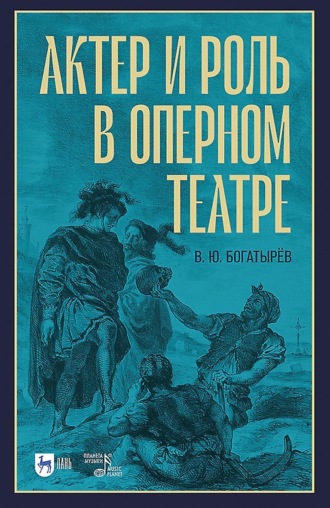
Актер и роль в оперном театре
Очевидно, что идеи Перри и Каччини в своем сценическом воплощении могли выражать лишь мироощущение и театральную эстетику своего времени. Идеалом, руководившим создателями оперы, равно как и художественной целью в творчестве их последователей, был именно древнегреческий театр (совсем не музыка), объединявший, в представлении человека Нового Времени, достижения многих искусств. Не только театр, но и философия, изящные искусства стремились приблизиться и подражали греческим образцам в этот период европейской истории.
Ставя под сомнение закономерность возникновения нового вида театра во Флоренции на рубеже XVI–XVII веков, музыканты лукавят. Даже схематичное рассмотрение феномена рождения оперы в общекультурном его контексте показывает, что появление dramma per musica явилось логическим итогом развития всей культуры Средневековья. Детальное обоснование этого факта выходит за рамки данного исследования. Нас будет интересовать соединение театра и музыки, влияние данного явления на принципы взаимоотношений актера и роли в искусстве оперы, а точнее, законы театра и законы музыки, вошедшие в непосредственное взаимодействие в феномене певца-актера.
Вместе с тем краткое рассмотрение процессов, формировавших театральную культуру XVII века, свидетельствует о глубинном родстве эстетики гуманистической драмы и dramma per musica. В связи с этим мы можем предположить, что и творчество актера (для нас это главный аспект) в данных видах сценического искусства изначально не имело тех принципиальных различий, на которые так часто ссылаются современная теория и практика театра.
Тенденции итальянского Возрождения нашли свое воплощение в театре прежде и раньше всего не в операх Монтеверди, а в гуманистической драме. Этот жанр возник задолго до оперы, опередил ее почти на столетие и успешно развивался на протяжении первой половины XVI века.
Начиная с «Подмененных» Ариосто (1509) драматурги следуют идеям «Поэтики» Аристотеля и подражают творчеству Сенеки. И во Франции, и в Испании, и в Англии новый этап в развитии драматического театра XVI столетия начинается с попыток соответствия классическим образцам. Правда, уже в пятидесятых годах XVII века классические сюжеты начинают вытесняться готическими и романтическими – это «Ромильда» Чезаре (1551) или «Ирена» Винченцо Джусти (1579). Таким образом, новое возвращение «Флорентийской камераты» к классическому канону явилось, скорее, продолжением уже сложившейся театральной традиции в ее новом качестве, нежели чем-то абсолютно новаторским и неожиданным.
Подражая древнегреческой трагедии, драматурги писали произведения в расчете на декламационное мастерство актера. Очевидно, что такая манера сценической речи требовала от исполнителя использования широкого диапазона голоса, а сюжетные положения трагедии предполагали статуарное величие и размеренность жеста. Вне всякого сомнения, в эстетике драмы в этот период можно увидеть прообраз будущей opera seria.
Интересно и то, что другая ветвь итальянского театра, комедия dell'arte, оказавшая в дальнейшем решающее влияние на рождение жанра opera buffa, объединяла иные возможности средневекового актера: «Актер народного театра эпохи Возрождения должен был обладать и вокальными и хореографическими данными, ибо пение и танцы составляли почти обязательную часть спектакля»[34].
Очевидно, что лицедеи на рубеже XVI–XVII вв. были, как бы мы сегодня сказали, универсальными актерами и что феномен театра в этот период своей истории сочетал как новые тенденции, так и подражание идеалам Высокой Древности. Тогда почему мы говорим о рождении оперы, как о реформе «Круга Барди», и почему «во Флоренции были убеждены в том, что, создав художественное произведение нового жанра, удалось заложить не только основы новой музыкальной формы, но и вообще, значительно более совершенной разновидности драмы»[35].
Вероятно, революционность феномена dramma per musica для своего времени заключена не столько в попытке организации декламации актера средствами музыки. Музыканты предположили, что сама сценическая роль актера может быть зафиксирована музыкальными средствами, а, следовательно, что драма как таковая может быть выражена музыкой.
Логично в связи с этим предположить, что дальнейшее размежевание эстетики оперы и эстетики драмы обусловлено развитием музыкального начала в драме флорентийского образца, что именно в музыке и заключена структурная разность роли в драме и в опере, являющаяся первопричиной всех принципиальных отличий сценического существования в этих видах театра для актера.
Сам же принцип неделимости искусств в фигуре певца-актера не менее революционный для своего времени остается и по сегодняшний день цельным, раз и навсегда найденным европейским театром. Ведь до создания оперы, в «мадригальной комедии» Веки (около 1600 года), «каждое действующее лицо было представлено четырьмя, пятью, шестью голосами. <..> Никакого видимого действия. Перед каждой «сценой» актер сообщал место и содержание действия, и имена персонажей»[36]. В опере флорентийского образца впервые певец олицетворяет свой персонаж и может отождествлять себя с ним. Он «говорит» его голосом, живет его чувствами, отождествляет себя со своим персонажем.
Итак, Флоренции Каччини предлагает «создать такой вид пения, где можно было бы словно говорить под музыку»[37] от «первого лица». Как уже отмечалось, этот музыкальный стиль получает название stile rappresentativo.
Очевидно, что мелодекламация – это принципиальное усложнение структуры роли. К законам декламации в классической трагедии, довольно строгим и определенным, добавляется мелодия. Здесь и возникает взаимодействие музыки и драмы внутри феномена роли актера оперного театра.
Музыковедением неоднократно отмечено, что ни в момент рождения, ни в процессе эволюции оперного театра этот вид сценического искусства к древнегреческой музыке не приближался, а создал нечто самобытное и независимое. Взаимодействие искусств в условиях спектакля неоднократно волновало творческие умы создателей оперы: соединение мелодики речи и музыки во французской лирической трагедии, единство музыкальных образов и сценического жеста в эстетике Вагнера, создание «речи, творимой словом» Мусоргским. Музыкознанием детально и всесторонне изучено взаимодействие музыкального и поэтического текстов в партитуре спектакля, разность эстетических доктрин национальных композиторских школ и влияние, оказываемое общекультурным контекстом эпохи на ее структуру.
Удивительно другое: искусствоведением по сию пору не обнаружено или, если быть более точным, не поставлено во главу угла несомненное достижение оперного искусства в его стремлении к древнегреческому идеалу, – речь идет именно об актере в оперном театре. Средства художественной выразительности в опере – вокальный голос-инструмент и звучащее слово, пластика человеческого тела, все выразительные возможности актера соединены в певце неразрывно. Актер оперного театра воплощает во времени и в пространстве идею театрального синкретизма и сам его феномен.
Это то, что и сегодня коренным образом отличает оперный театр от других видов сценических искусств. Пусть развитие музыки и раздробило изначально совершенное единство партии-роли (ведь в нарушении норм stile rappresentativo из речитатива совсем скоро возникнет мелодия и правила музыкальной драматургии), – изначальное следование идее синкретического единства присуще опере в этом ракурсе и сегодня.
Законы композиции, само внутреннее устройство музыки способны сделать ее содержательной, действенной, драматической и сценически убедительной, что служит до некоторой степени утешением приверженцам первенства музыки над драмой в оперном искусстве. Но эти «преимущества» могут быть обнаружены и в истоках европейской театральной традиции.
Задаваясь вопросом почему герой поет в театре Эсхила, театроведение отмечает: «Первый ответ – самый простой и несомненный. Потому поет, что древнегреческая трагедия только-только вышла из дионисийских действ, где пение обязательно участвовало в нерасчлененной, синкретической стихии древнего искусства. Разговаривать на сцене еще не пришла пора. Да и возможен ли разговор в огромнейшем амфитеатре…»[38]. Музыканту приятно отметить, что «прежде всех век» люди на сцене пели, – или, в современном понимании эстетики и правил пения, мелодекламировали, – и только потом заговорили.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 1938. С.245.
2
Dramma per musica, имя, полученное оперой при рождении во Флоренции в 1598 году.
3
Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1971. С. 4.
4
Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение. М., 1980. С. 14.
5
Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. СПб., 2000. С. 41.
6
Аристотель. Политика: В 4 т., М., 1983. Т. 4. С. 634.
7
Волькенштейн В. Драматургия. М., 1929. С. 7.
8
Волькенштейн В. Драматургия. С. 7.
9
Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 64.
10
Аристотель. Об искусстве поэзии. С. 66.
11
Роллан Р. Музыканты наших дней. С. 34.
12
Берлиоз Г. полемизирует здесь с каноном французской лирической трагедией, навсегда сохранявшей память о декламационных нормах Классицизма, о театре Корнеля и Расина – прим. В. Б.
13
Владимиров В. Действие в драме. СПб. 2007. С. 41.
14
Барбой Ю. К теории театра. СПб., 2008. С.13.
15
Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. С. 27.
16
Любопытно, что аксиома рождения оперы, как попытки реконструкции греческой трагедии, так часто цитируемая, не предполагает обратного вывода и о том, что роль мелодекламации и музыки в театральном каноне Древней Греции естественным образом объединяет древнегреческую трагедию с музыкальным театром Нового времени – прим В. Б.
17
Держановский В. Слово. 1907. № 72 // Цит по: Гозенпуд А. Иван Ершов. СПб., 1999. С. 171.
18
Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. С. 19.
19
Станиславский К. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 385.
20
Сохор А. О задачах исследования музыкального восприятия // Художественное восприятие. Л., 1971. С. 326.
21
Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2. С. 252.
22
Станиславский К. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 369.
23
Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 2. С. 13.
24
Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 6. С. 236.
25
Силантьева И. И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве: Автореф. дис… д-ра искусствоведения. С. 16.
26
Грачёва Л. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: теория и практика: Диссертация на соискание степени искусствоведения. С. 110.
27
Грачёва Л. Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: теория и практика: Дис… д-ра искусствоведения. С. 201.
28
Станиславский – реформатор оперного искусства. М., 1988. С. 33.
29
Из интервью с Д. Черняковым. 30.06. 2005 ⁄⁄ Личный архив В. Богатырёва
30
Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. Т. 2. С.81.
31
Шаляпин Ф. Литературное наследство: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 145.
32
Станиславский – реформатор оперного искусства. С. 19.
33
Комиссаржевский Ф. Я и театр. М., 1999. С. 185.
34
Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV–XVII веков. М., 1966. С. 212.
35
Аберт Г. В. – А. Моцарт: В 4 т. М., 1987. Т. 1. С. 235.
36
Роллан Р. Опера в XVIII веке в Италии, Германии, Англии. М., 1931. С. 24.
37
Cacchini G. Nuove Musiche. Milano, 1932. S. 12 (nep. c ит. – В.Б.).
38
Таршис Н. Музыка спектакля. Л., 1978. С. 9.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

