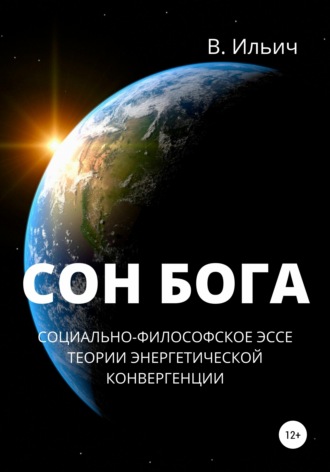
Сон бога. Социально-философское эссе теории энергетической конвергенции
В этой связи, заметим, что человеческий труд качественно отличается от животной деятельности, предусматривающей с целью удовлетворения потребностей применение орудий труда. Однако по своей природе животный «труд» предполагает не изготовленные, а готовые средства труда, то есть здесь отношение «прямого потребления», которое никогда не выводит процесс из природно-биологического круга. К примеру, самые развитые представители животного мира приматы, часто используют предметы природы, к примеру, палку, камень и иное в качестве орудия, однако, как правило, пользуются ими не более одного раза, а главное без их усовершенствования. Иными словами, в удовлетворении своих потребностей животные используют только природный материал. Человек же в удовлетворении своих потребностей в основном использует предметы несуществующие в природе в готовом виде.
Таким образом, если труд вообще начинается с использования готовых, данных природой средств труда, то человеческий труд начинается с сознательного изготовления орудий. В результате деятельности по изготовлению орудий, успех приспособления к внешней среде в большей степени зависел от уровня производительности человеческого труда, играя в развитии и выживании первобытного человека первостепенную роль.
Первая одежда первобытного человека – набедренная повязка, думается, явилась существенным моментом в повышении производительности труда (работоспособности). Именно это стало причиной её появления. Наивно полагать, что набедренная повязка для первобытного человека была украшением и уж тем более морально-нравственным аспектом позволявшим скрыть его гениталии, хотя, напрямую, а не косвенно, и исполняла роль прикрытия. Однако в вопросе первичности следует признать, что ладонь руки, а не «фиговый лист» и уж тем более набедренная повязка была первой «одеждой» человека прикрывающей его половые органы, как самые чувствительные и подверженные быстрому раздражению; естественным образом, в состоянии раздражения мешающие собирательнице женщине, а также мужчине как охотнику.
Логично предположить, что как от раздражения сетчатки глаза солнечным лучом мы инстинктивно прикрываемся ладонью, такая же реакция следует от раздражения и половых органов. В дальнейшем, доведённая до совершенства, преимущественно из кожи животного, набедренная повязка, пришедшая на смену ладони, высвободила вторую руку, прикрывавшую половой орган от раздражения, способствуя, тем самым, более удачной охоте мужчине и более эффективной работе собирательнице-женщине. Здесь энергия инстинкта конвергировалась в энергию творчества производительного труда. Производительность труда, стало быть, явилась субстратом, началом зарождения функции развития сознания, а её принцип «минимизации энергии» явился краеугольным камнем, – толчком в изменении человеческой жизнедеятельности, а именно выводе её из равновесного (племя) состояния к цивилизационному развитию (совр. общество).
Впоследствии, надо полагать эффективность добычи питания напрямую повлияло на численность первобытных людей. В этой связи приходилось осваивать новые территории, где окружающая температура (в сравнении с «Эдемом») постоянно понижалась. Естественно, в таких не освоенных условиях, а потому и весьма враждебной внешней среде, первобытный человек был вынужден укрывать и другие части своего тела.
В несколько ином русле, скорее всего, следует предполагать об использовании огня человеком. Думается, что инстинкту не дано принудить животное взять лапой огонь: Инстинктивно огонь могла взять только «рука» живого существа с проявляющимся и заложенным либо природой, либо Богом сознанием, как некой космической сверх силой обладающей рефлексирующей энергией и иными свойствами неизвестные пока что человеку. В вопросе же «первичности», то есть, что явилось началом проявления сознания, огонь или набедренная повязка, то это уже не столь принципиально важно. Важно, что, либо набедренная повязка, либо огонь, явились импульсом сущностной основы человека, его творчества. Ведь как птица рождена для полета, так и человек, скорее всего, был для творчества рожден!
Высокому уровню производительности способствовали более совершенные орудия труда первобытного человека, которые, в свою очередь могли совершенствоваться исключительно в системе совместного труда. Большой производственный опыт некоторых субъектов социума в условиях слаженной, то есть согласованной деятельности, позволял развить и наиболее высокую работоспособность, что в свою очередь, давало преимущества в приспособлении к среде всем субъектам данного социума по сравнению с членами другого социума. Однако, как показывает история, производительность быстро перенималась этими «другими» стало быть, именно в сфере производства, человек, как человек производящий (homo facit), должен конституировать преференцию человека разумного (homo sapiens).
Производственная деятельность, таким образом, с момента своего возникновения по своему существу была деятельностью не индивидуальной, а совместной (коллективной), направленной на удовлетворение основных потребностей всех субъектов социума вместе взятых, и только тем самым к удовлетворению индивидуальных потребностей каждого из его субъекта взятого в отдельности. Будучи по своей природе не индивидуальной, а совместной, производственная деятельность с момента своего возникновения не могла совершенствоваться под действием индивидуального естественного отбора. Естественный отбор совершенствовал приспособительную деятельность. С переходом от использования готовых орудий труда к их изготовлению и, таким образом трансформации руки, а стало быть и сознания, положение должно было в корне меняться, так как человеческая эволюция базируется на принципе чуждом животному миру, принципе фиксации и передачи накопленных знаний. «Наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передаёт от поколения к поколению биологические программы, у человека существует ещё одна кодирующая система – социокод, передающей от человека к человеку, от поколения к поколению надбиологические программы, регулирующие социальную жизнь»6 и тем самым стимулирующие развитие сознания.
Стало быть, социально-производственная связь теснейшим образом обусловливает зависимость единичного человека от других людей в удовлетворении жизненно важных потребностей: питания, а также продолжение рода и признания. В этой связи каждый человек в той или иной мере испытывает противоречивое чувство к обществу. С одной стороны, человек не желает быть зависимым и постоянно, на протяжении всей своей жизни стремится к свободе, то есть к не обременённости социальными связям. С другой стороны, только в обществе человек может удовлетворить жизненно важные фундаментальные потребности: продолжение рода и признание. Нетрудно заметить, что данное противоречие состоит из противоположных сторон: волевой – индивидуальная свобода, и нравственной – социальная связь. Эти две противоположные стороны и составляют сущность социальной силы, которая, надо полагать, является социально-биологической причиной постоянного напряжённого состояния, интенцией к совместной деятельности и улучшению, таким образом, собственной, то есть, как говориться, частной жизни.
Общественную жизнь или общество как систему, стало быть, можно и следует определять как биосоциальный преобразователь энергии, где совместная деятельность субъектов, определенным образом связана. Из этого определения, непосредственно, вытекает необходимость постоянной связи любого организма с окружающей средой, осуществляемой путем обмена энергией, что, собственно говоря, как бесспорный и очевидный факт регистрирует самостоятельно каждый человек на обыденном уровне. Стало быть, совместная деятельность осуществляется в обществе, а она – совместная деятельность (содержание), и есть общество (форма). Здесь, содержание оформлено, а форма содержательна. Совместная деятельность вне системы общества, как и общество без системы совместной деятельности, не могут быть мыслимы. Общество и совместная деятельность, как принципы системности, представляют собой структурную связь диалектического единства.
Сущность общества, таким образом, заключается во взаимно-рациональной совместной деятельности субъектов, то есть в определенной организации их усилий (энергий), а сущность человека, в таком случае, следует трактовать как совокупность социальных отношений. Человеком рождается каждый – по образу, по сущности же, каждый является тем, что он делает. В деятельности, а вернее в совместной деятельности с другими, проявляется сущность человека. Если человек варит сталь, он сталевар, если учит – учитель и, т. д. Человек и общество, стало быть, не могут рассматриваться изолированно друг от друга. Нет общества без человека, но и человек существует только в обществе или, как утверждал Гёте «Человек немыслим без людей», а общественная активность людей или социальная напряженность, отражая совместную деятельность, характеризует и общественную жизнь. Сложность общественной жизни как объекта познания приводит к тому, что ее воспроизводит целый ряд определений в понятии совместной и, прежде всего, производственной деятельности. Раскрыть свою сущность (экзистенцию), развить творческие начала человеку возможно только в совместной производственной деятельности.
Таким образом, мы рассматриваем атрибут общества совместную деятельность, как процесс конвергенции (в той или иной степени осознанности) природной энергии в социальную, по содержанию. По форме же, это нескончаемая борьба с переменным успехом добра и зла: крайнего альтруизма с крайним эгоизмом, справедливости с эффективностью. Как социальная основа, энергетическая конвергенция совместной деятельности порождает самые различные процессы экономического, политического, идеологического и т. д. порядков, отражающие сущность господствующих в обществе как материальных, так и духовных напряженных морально-нравственных отношений. Другими словами, напряженность в совместной деятельности рассматривается как результат её внутренней организации, причем эта организация не может быть выбрана произвольно. Она должна быть выбрана с точки зрения определенных принципов. Однако прежде чем приступить к рассмотрению принципов мы должны сказать несколько слов о человеке и его жизни независимо от общества, так называемой робинзонаде или независимой свободе, так называемой «свободе воли».
Мало найдется людей, которым неизвестен роман Дефо «Робинзон Крузо», в котором автор повествует о молодом буржуа Робинзоне Крейцнер (Крузо) попавшего на необитаемый остров по воле случая, точнее затонувшего корабля во время шторма. В этом просветительском произведении писатель Дефо прославляет человеческую отвагу, ум и трудолюбие. Образ Робинзона, олицетворяющий стойкость человека перед трудностями, его умение выживать в сложных жизненных условиях вошел в мировую литературу свободным независимым от общества человеком. Однако и в этом произведении проникнутым романтизмом индивидуальной деятельности, английскому писателю и общественному деятелю Даниелю Дефо, невозможно было умолчать о взаимообусловленности человека и общества. А именно тот факт, что оставаться человеком в сложных условиях Робинзону Крузо, несомненно, способствовало то, о чем нам повествует сам герой романа: «…стареющий отец постарался дать мне образование». Именно образованность Робинзона позволило ему долгие 28 лет сохранить человечность, то есть то качество, которое может приобрести человек только в обществе. Вне общества, вне развития человек деградирует. Не будучи с детства социализированным, человек приобретает образ «Маугли» из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.
Таким образом, человек вне общества, а значит и развития, теряет свое человеческое обличие. Если же еще и не двигается, то превращается, по сути, в растение и рано или поздно погибает, по крайней мере, как человек.
Механизм совместной деятельности
К вопросам нравственности помыслов и поступков в процессе человеческой деятельности, следует заметить, обращались уже греческие мыслители. Так, по мнению Сократа, возражавшему софистам, добродетель состоит не в том, чтобы выгадывать, а выгода состоит в том, чтобы быть добродетельным. Аристотель, характеризуя добродетель как середину между двумя порочными крайностями подчеркивает, что она является разной для разных индивидов и нахождение середины в каждом случае это особое искусство и индивидуальный акт. В итоге Аристотель приходит к выводу, что добродетельными являются поступки, которые совершает добродетельный человек. Принципиально другое по сравнению с Аристотелем понимание нравственности предложил немецкий философ Иммануил Кант, связав нравственность не с особой природой поступка, а с его общим основоположением – категорическим императивом. Естественным образом возникает вопрос: как возможен категорический императив Канта? Не является ли он схемой по существу, внутренняя односторонность которого, мягко говоря, не более чем благое намерение, – поэтика философа.
Думается, что в системе человеческих отношений, путь к причинно-следственным связям между волей и нравственностью (то есть личной свободой и социальной зависимости), лежит через противоречивое взаимодействие субъектов совместной деятельности, через раскрытие механизма обмена деятельностью (энергией) между ними. Именно «Обмен, – как утверждал еще Аристотель, – вот что связывает людей»7.
Заметим, что всякое образование является системой лишь постольку, поскольку оно включает в себя стороны, которые полагают и отрицают друг друга. Таким образом, критерием для выделения органической системы является выделение противоположных сторон диалектического единства. Характер проявления социальных противоречий в данном единстве зависит от специфики протекания взаимодействия противоборствующих сторон совместной деятельности, от условий, обстановки, в которой оно происходит, и степени обостренности. Особенно наглядно это прослеживается в системе производственных отношений сотканной из клубка, казалось бы, неразрешимых противоречий.
Конкретизирующая характеристика социальной системы, системы совместной производственной деятельности, её качественно специфический способ взаимодействия это, говоря философским языком, обмен деятельностью или, выражаясь на обыденном языке, соединение человеческих усилий. Совместное производство на практике соединяет несоединимые вещи труднообъяснимые с позиции традиционных научных подходов в теории и, прежде всего, в теории отношений. Практика отношений в процессе производства через триаду «потребность – ценность – интерес» соединяет взаимоисключающие по форме взаимодействия как «согласие» и «конфликт». При производстве по сути это элементарный и, в то же время, сложный обмен деятельностью – усилиями, то есть затратами человеческой энергии на уровне отдельного субъекта деятельности.
Общественное производство – совместная производственная деятельность, а вернее взаимодействие, более сложный процесс обмена, весьма специфичного сближения, или конвергенции усилий противоположных, но диалектически связанных сторон совместной деятельности – организатора (работодателя), и исполнителя (наемного работника). Отношения данных субъектов к условиям совместной деятельности, в силу противоположности их социальным статусам, также противоположны, что естественным образом делает их социально напряженными. Как атрибут производственной деятельности, социальное напряжение характеризует совместную деятельность, являясь отражением интересов противоположных, но в то же время, повторим, связанных между собой субъектов деятельности – руководителя (организатора) и наёмного работника (исполнителя).
Социализированное человеческое поведение, опосредовано потребностью, которую человек с той или иной степенью необходимости определенным образом и с определенной мерой активности удовлетворяет или пытается удовлетворить в процессе непосредственного либо завершенного взаимодействия с другими людьми (акторами, то есть действующими субъектами по определению американского социолога Т. Парсонса). В качестве цели непосредственного взаимодействия акторов, практически, всегда выступает рациональное, эффективное взаимодействие по производству материального, или нематериального продукта, удовлетворяющая ту или иную потребность. Естественно, цель после окончания взаимодействия: справедливо распределить результат взаимодействия. Однако, ни производство, ни распределение в отдельности и, даже, необходимость в удовлетворении фундаментальных потребностей не объясняет факт исключительной рациональности в принятии справедливых решений. Как показывает практика принимаемых решений, вектор производственной деятельности в сторону её эффективности перманентно влечет снижение социальной справедливости и, наоборот, повышение справедливости снижает эффективность совместной деятельности. Особенности такой противоречивости мы рассмотрим в разделе близкой к практике.
Раздел II. Практические аспекты социальной напряженности
Гл. третья: Согласие и конфликт
Противоречивая связь принципов общественной жизни социальной справедливости и экономической эффективности, по всей видимости, может быть раскрыта через внутреннее отношение акторов (активных субъектов) в их совместной производственной деятельности, в частности, таких феноменов как «согласие» и «конфликт».
Противоречивые оценки социальной действительности, как с позиции согласия, так и с позиции столкновения-конфликта, мы встречаем и в научной литературе. Конфликт, здесь, имеет диаметрально противоположные оценки: от предпочтительного его присутствия в системе совместной деятельности (Дарендорф), до восприятия конфликта, как чисто дезорганизующего начала (Парсонс). Объяснить противоположное отношение к конфликту думается можно тем, что процесс обмена деятельностью между различными субъектами взаимодействия не всегда предсказуем в краткосрочном периоде. Разно плановость намерений и настроя на взаимодействие акторов, противоречивость интересов, в силу диаметральной противоположности их позиций в системе совместной деятельности, естественным образом характеризует систему совместной деятельности напряженной и трудно предсказуемой.
Любая система, в том числе и общественно-производственная, с закономерностью (термодинамики) стремится к своему пределу и для выражения этой закономерности существует понятие цели. Иначе говоря, цель системы – это достижение своего предельного состояния. Однако, для достижения такой цели как устойчивое функционирование общественно-производственной структуры, необходимо состояние согласия, которое, таким образом, можно отождествлять с устойчивостью и прямо соотносить с процессом функционирования. Тогда к процессу развития, по всей видимости, состояние согласия будет иметь косвенное отношение.
Исходя из принципа симметрии, можно предположить, что если в процессе развития доминирующим является состояние конфликта (по утверждению исследователей придерживающихся точки зрения положительной роли конфликта), то его (конфликт) определенным образом можно соотносить с изменчивостью, и тогда к процессу функционирования он тоже будет иметь отношение, но уже косвенное. Иными словами, как ни парадоксально это будет звучать, но мы вправе признать, что конфликт – это «дезорганизующий организатор». То есть, как бы, катализатор дезорганизации «старого» и организации «нового». Конфликт стимулирует переориентацию системы к новым, более совершенным (передовым) условиям совместной деятельности обеспечивая преодоление процесса дезорганизации. В таком случае было бы неправильно принимать за идеал бесконфликтное развитие общества, отождествляя конфликт только с хаосом, дезорганизацией. Показатель степени организованности общества не отсутствие конфликта, а научно-обоснованное управление конфликтной напряженностью в совместной деятельности, если и не исключающее, то, по крайней мере, контролирующее, говоря языком синергетики, бифуркационное поведение системы.
Таким образом, согласие и конфликт могут быть представлены как полюса (единой) субстанции – совместная деятельность, в которой процессы функционирования и развития находятся в диалектическом единстве. Следовательно, состояния согласия и конфликта, как противоположные стороны единой субстанции, могут быть рассматриваемы не иначе, как в единстве диалектической связи, что, в определенной мере, и объясняет, почему в изучении социальной действительности исследователи отдают приоритет либо согласию, либо конфликту. Данный социально-политический аспект (диалектического единства согласия и конфликта) в основании стабильной напряженности совместной деятельности разностатусных субъектов, пожалуй, можно отнести к источнику, – движущей силе развития общественной жизни.
Следующий аспект может найти объяснение из развития формы принятия решений в процессе управления совместной деятельности: от автократии (отсутствие самоуправления) к демократии (возможностью достижения максимального самоуправления, самоорганизации). Исходя из развития формы принятия решений в процессе совместной деятельности, согласие может быть декларированным (а оно, скорее всего, только таким и может быть на начальном этапе становления совместной деятельности), когда один или несколько (группа) индивидов, наиболее сильных (в материальном и духовно-волевом плане, прямо или косвенно) навязывают определенные условия совместной деятельности; либо же, согласие может быть решенным, когда большинство, или все, без стороннего влияния, осознанно, конкретно обозначенных и принятых всеми (или большинством) индивидами условий, соглашаются на совместную деятельность. При таком, и только таком решении можно констатировать, что согласие решенное, а решение согласованное. Отсюда конфликт в самой обобщенном виде можно определять как столкновение интересов, то есть, сбой в согласии или в привычном способе принятия решения, где одна из сторон высказывает несогласие с условиями совместной деятельности.
При согласованном принятии решений руководителем, устойчивое взаимодействие субъектов, по всей видимости, будет являться предпосылкой плавного, постепенного перехода к изменению существующих (действующих на данный момент) условий совместной деятельности, где переход можно рассматривать как «ступеньку» – этап бесконечного процесса эволюционного развития. В случае же декларируемого согласия (без согласия большинства), устойчивое взаимодействие субъектов совместной деятельности будет временным и рано или поздно, такое решение всегда будет являться потенциальной возможностью взрывного (революционного) перехода к изменению действующих условий совместной деятельности реализуемых новыми лидерами выдвинувшихся на «гребне» конфликта. Следовательно, в качестве основания стабильной напряженности, может быть принят принцип социального партнерства, в котором согласие позиционируется как детерминанта эволюционного предсказуемого развития; конфликт же – взрывного (революционного) непредсказуемого.
Таким образом, стабильность, или иначе, предсказуемость совместной деятельности будет проявляться в единстве, взаимообусловленности состояний согласия и конфликта, где мера социальной напряженности, назовем ее работоспособность, может выступать в качестве интегрирующего фактора, позволяющего знать, предвидеть и управлять социальными процессами. Отсюда в качестве главного основания стабильности или регулируемой напряженности в системе совместной деятельности субъектов, можно принять их производительную силу или, одним словом работоспособность, сформированную посредством интересов разностатусных субъектов. Резюмируя вышесказанное, позволим себе пока в форме импликации констатировать:
Если есть совместная деятельность, то обязательно, как само собой разумеющееся, присутствует энергия, – сила производящая эту деятельность. Если есть сила, то, как отражение этой силы или её характеристикой8, является определенная положительная (при согласии) или отрицательная (при конфликте) социальная напряженность9, а в основе принятия решения к согласию или конфликту лежат диаметрально противоположные статусам субъектов их интересы.
Гл. четвертая: Общий и частный интерес
По сравнению с потребностями, интересы выступают в качестве непосредственной причины действий. Ни одно социальное действие крупное событие общественной жизни – преобразование, реформа, не может быть понято, если не выяснены интересы, породившие это действие. Поэтому для осмысления механизмов деятельности, в которых интересы включены в качестве источника и главной пружины социальной активности, имеет концептуальное значение.
Некоторые глубокие догадки относительно причинных связей в обществе, в объяснении политического устройства общества и его нравов, исходящие из интересов и потребностей, мы находим ещё у французских мыслителей Гольбаха, Гельвеция, Дидро. Энциклопедисты пытались с помощью интереса объяснить не только общественную жизнь, но и природу самого интереса.
Определенный вклад в теорию интереса внесли немецкие мыслители, в частности И. Кант и Г. Гегель. Непосредственные стимулы нравственного поведения человека, по Канту, суть уважения к моральному закону, интерес и максима воли. Их объективной основой является моральный закон. Отмечая абстрактный характер кантовской необходимости, выражающейся в моральном законе, Гегель напротив, не связывает интерес с моральным законом. В его системе интерес представляет собой одну из важных категорий философии духа, который, как известно, является у него выражением абсолютной идеи в жизни общества. Взгляды Гегеля на интерес можно представить как высший идеалистический этап в развитии западноевропейской классической социологической мысли по данному вопросу. В то же время представляется важным с позиции объективности показать процесс формирования и материалистической трактовки понятия «интерес» в работах основоположников марксизма.

