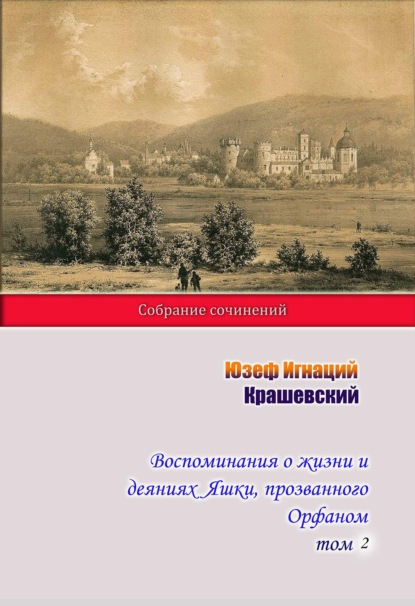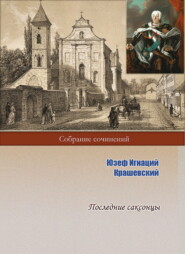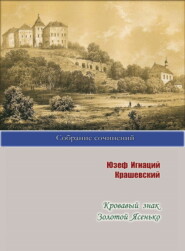По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воспоминания о жизни и деяниях Яшки, прозванного Орфаном. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда Каллимах уже хорошо прижился в Кракове, захватил воспитание ребят и почти каждый день был вызываем к королю, у которого просиживал часами, когда собирался совет, разошлось это скоро по людям и старые паны, недовольные Казимиром, начали с акцентом поговаривать, что он взял учителя не для детей, а для себя.
Кто тайные разговоры и советы итальянца передавал и выносил из замка, это узнать было трудно; однако определённо то, что много о них говорили и, кажется, не из пальца высосав.
Каллимах, как в религиозных вещах, так и в светских делах, был тем же. С Господом Богом был запанибрата, а с тем, что у нас уважалось как закон и считалось неприкосновенным, он советовал рассправиться силой.
Я сам слышал, как он дома, в обществе своих итальянцев повторял:
– В этом королевстве, таком, какое оно есть сегодня, с привилегиями влиятельных, рыцарства и духовенства, править и ничего начинать нельзя. Это машина пуста, король должен её переделать, если хочет чего-то добиться. Каждый мизерный грош он должен выпрашивать и созывать съезды, на них слушать, как ему под нос бурчат, отказывают в деньгах и жадничают, часто угрожают и ругают. Однажды должны положить этому конец, обезглавив самых упорных.
Когда такие слова повторяли по свету, легко догадаться, какое возмущение они вызывали в тех людях, отцы которых разорвали саблями пергамент перед Ягайллой, когда он не хотел подтвердить обещанных им прав.
Вся неприязнь от короля перешла к итальянцу. Стали ему громко угрожать, но и то должны были ему признать, что был отважен. Он смеялся над угрозами. Притом он знал наш поспешный, а нескорый до дела народ, разве что когда от великой горячности язык затронул саблю.
Каллимахом теперь прислуживались почти все. Помимо того, что имел воспитание королевичей на плечах и им распоряжался, как хотел, в канцелярии все римские дела и заграничные связи с иностранными монархами шли через его руки.
Он исправлял латинский язык в письмах, диктовал и содержание, внушая королю, что он сильный, должен таким быть и ни одному из монархов не уступает, поэтому должен давать им это чувствовать. Согласно его мнению, только более сильной власти в доме короля не хватает, чтобы о ней и за границей дал знать.
Король охотно это слушал, но не было возможным, чтобы что-то могло родиться из бесед.
Жизнь у итальянца проходила так счастливо, что действительно Польшу мог назвать второй своей родиной. Он также совсем не думал её покидать и променять на другую.
На следующий год, когда его тут уже все видели вполне привыкшим, я первый раз из уст итальянца услышал имя той дамы, у которой он гостил на Покуте, и меня поразило то, что он называл её Светохной, именно так, как звали ту родственницу Лухны.
Воспевал он её в своих песнях под именем Фани, потому что она первая предложила ему гостеприимство, когда он прибыл бедным из Венгрии, и полюбила его.
Теперь, однако, по прошествии нескольких лет он, смеясь, рассказал, что хотя сохранил к ней благодарность, другого чувства ему трудно было бы из груди добыть и оживить умершую к ней любовь.
С обычной для него безусловной откровенностью он говорил о том перед приятелями, не обращая внимания на моё присутствие:
– Заметьте, мои милые, – прибавил он, – в каком положении я буду, когда эта Светохна, как объявляет, прибудет в Краков, чтобы навестить меня. Tempora mutantur! Женщина постарела… я остыл, но справедливо, чтобы я за гостеприимство расплатился… и сегодня, приплыв в порт, я благодарен за приют, данный потерпевшему кораблекрушение.
Я ещё не предполагал, что эти две Светохны могут быть одной, когда вскоре, зайдя к матери, узнал от Слизиака, что у неё неприятный гость: прибывшая далёкая родственница Светохна, которая некогда ей служила, но из-за легкомысленных привычек та вынести её не может.
Я сам не знал, должен ли воздержаться от посещения матери, оставив её одну со Светохной, или идти туда, чтобы сократить неприятное общение с ней один на один, когда служанка Новойовой пришла мне объявить, чтобы я шёл к госпоже.
Никогда я не любил Светохны по причине её крашенного лица, моложавости, болтливости и фальши; я помнил ей то, что предложила себя для того, чтобы завести меня в засаду, да и отвращение к ней Лухны моему способствовало.
Однако я шёл, готовый всегда исполнить приказание матери.
Я нашёл Светохну ужасающе постаревшей, но ещё более страшно, чем когда-либо, накрашенной, смешно наряженной, с волосами, причёсанными, как у молодой, и голосом, выражающим сильную радость.
Она сидела напротив Навойовой, которая в своей монашеской одежде, с чётками в руке, хмурая, казалось, с отвращением слушает её щебетание.
Когда я входил, Светохна, улыбаясь, повернулась ко мне и фамильярным кивком головы поздоровалась со мной.
– Значит, как я погляжу, всё окончилось счастливо! – воскликнула она. – Только это облачение и покаяние излишние! Господь Бог уже обо всём забыл.
Измерив меня с ног до головы смелым взглядом, она прибавила:
– Сказать по правде, ты вырос красивым мужчиной и прекрасно выглядишь. А что же, – рассмеялась она, – о Лухне забыл?
Я сильно зарумянился, потому что мать устремила на меня глаза.
– Не забыл, – сказал я, не желая лгать, – но…
– Что в глазах, то в голове! Так люди говорят! – добавила Светохна.
– Найдёт он себе, когда придёт время, подходящую пару, – прервала живо мать. – Моя задача – найти ему её и доставить. Не хочу, чтобы он скоро женился, потому что я ревнива. Он бы привязался к жене, а обо мне забыл. Также служба, в которой он остаётся, не позволяет ему жениться.
Я промолчал, затем Светохна повернулась ко мне.
– Но! Вы ведь были или остаётесь ещё при королевичах… знаете, наверное, Каллимаха?
Не знаю, хотела ли она покраснеть, говоря это, потому что белила не позволяли разглядеть румянца, но сделала минку девушки, которая стесняется. Меня это сильно поразило.
– Я каждый день его вижу и имею счастье с ним общаться, и служить ему переводчиком, – сказал я.
– А, таких людей земля наша не рождает! – начала она с пылом. – Под счастливым небом приходят они на свет. Как же его можно даже сравнить с теми нашими грубыми мужчинами, которые ни деликатных чувств, ни обычаев не знают и в крови не имеют. В самом деле, лучшего учителя король своим сыновьям выбрать не мог, – продолжала она с пылом дальше. – Он сам выглядит как королевич!
Мы молча слушали эти дифирамбы. Я не отвечал на них, и только через мгновение спросил, откуда она его знала.
Она явно забеспокоилась и, пощипывая платочек, который она держала на коленях, сказала, не подняв глаз:
– О, это долгая и интересная история! Тогда, пребывая в Покуте, я имела счастье принимать его как гостя. Он был тогда несчастным, чужим, ограбленным в Венгрии. Возможно, ему угрожали тем, что его хотели выдать папе, который наступил ему на горло; поэтому он спрятался под крылья нашего пана. Забрал его потом у меня ксендз-архиепископ, но теперь всё-таки люди о нём узнали. Не правда ли? Король его, возможно, канцлером сделает.
– Не думаю, – отвечал я холодно, – потому что иностранец не может занимать этой должности.
Видя сильное утомление на лице матери, я уже не отвечал, не желая продолжать разговора. Светохна, казалось, собиралась ответить. Она обратилась ко мне только с вопросами: “Где жил Каллимах?”, “Вместе ли с королевичами?” и “Когда бывал дома?”
Я отвечал двусмысленно, что дома его всегда было трудно застать, потому что больше он просиживал в замке при короле, а когда возвращался, тогда его всегда ждало множество людей и всегда окружала толпа.
Она сделала гримасу на это. Свидание всё-таки закончилось, но объявлением, что Светохна хотела снять себе тут дом и на какое-то время остаться в Кракове. Мне легко было догадаться, что делала она это ради Каллимаха, который гостье, должно быть, был не очень рад.
Все уже знали о его новых романах в городе, потому что без этих он жить не мог, утверждая, что поэта могла вдохновить только женщина.
Вечером по поручению короля я должен был идти к итальянцу; я застал его с другом Бонфили, но пасмурным и печальным.
Он не заметил меня, когда я входил, а, увидев потом, не обращая внимания, закончил начатый рассказ приятелю.
– Чёрт возьми! Бабу мне сюда лихо принесло! Она ужасно постарела и стала смешной, желая прикинуться скромной девочкой. Естественно, её любовь настолько возросла, насколько моя остыла. Не могу от неё избавиться, а жизнь мне отравляет!
Он зачитал острый вирш Ювенала, добавил другой, Горация, и только тогда повернулся ко мне.
И, словно что-то припомнил, спросил:
– Ni fallor! Она мне о вас вспоминала? Вы ведь знаете пани Светохну?
– Больше она меня, чем я её, – сказал я холодно. – Я никогда не видел её тут в Кракове.
Кто тайные разговоры и советы итальянца передавал и выносил из замка, это узнать было трудно; однако определённо то, что много о них говорили и, кажется, не из пальца высосав.
Каллимах, как в религиозных вещах, так и в светских делах, был тем же. С Господом Богом был запанибрата, а с тем, что у нас уважалось как закон и считалось неприкосновенным, он советовал рассправиться силой.
Я сам слышал, как он дома, в обществе своих итальянцев повторял:
– В этом королевстве, таком, какое оно есть сегодня, с привилегиями влиятельных, рыцарства и духовенства, править и ничего начинать нельзя. Это машина пуста, король должен её переделать, если хочет чего-то добиться. Каждый мизерный грош он должен выпрашивать и созывать съезды, на них слушать, как ему под нос бурчат, отказывают в деньгах и жадничают, часто угрожают и ругают. Однажды должны положить этому конец, обезглавив самых упорных.
Когда такие слова повторяли по свету, легко догадаться, какое возмущение они вызывали в тех людях, отцы которых разорвали саблями пергамент перед Ягайллой, когда он не хотел подтвердить обещанных им прав.
Вся неприязнь от короля перешла к итальянцу. Стали ему громко угрожать, но и то должны были ему признать, что был отважен. Он смеялся над угрозами. Притом он знал наш поспешный, а нескорый до дела народ, разве что когда от великой горячности язык затронул саблю.
Каллимахом теперь прислуживались почти все. Помимо того, что имел воспитание королевичей на плечах и им распоряжался, как хотел, в канцелярии все римские дела и заграничные связи с иностранными монархами шли через его руки.
Он исправлял латинский язык в письмах, диктовал и содержание, внушая королю, что он сильный, должен таким быть и ни одному из монархов не уступает, поэтому должен давать им это чувствовать. Согласно его мнению, только более сильной власти в доме короля не хватает, чтобы о ней и за границей дал знать.
Король охотно это слушал, но не было возможным, чтобы что-то могло родиться из бесед.
Жизнь у итальянца проходила так счастливо, что действительно Польшу мог назвать второй своей родиной. Он также совсем не думал её покидать и променять на другую.
На следующий год, когда его тут уже все видели вполне привыкшим, я первый раз из уст итальянца услышал имя той дамы, у которой он гостил на Покуте, и меня поразило то, что он называл её Светохной, именно так, как звали ту родственницу Лухны.
Воспевал он её в своих песнях под именем Фани, потому что она первая предложила ему гостеприимство, когда он прибыл бедным из Венгрии, и полюбила его.
Теперь, однако, по прошествии нескольких лет он, смеясь, рассказал, что хотя сохранил к ней благодарность, другого чувства ему трудно было бы из груди добыть и оживить умершую к ней любовь.
С обычной для него безусловной откровенностью он говорил о том перед приятелями, не обращая внимания на моё присутствие:
– Заметьте, мои милые, – прибавил он, – в каком положении я буду, когда эта Светохна, как объявляет, прибудет в Краков, чтобы навестить меня. Tempora mutantur! Женщина постарела… я остыл, но справедливо, чтобы я за гостеприимство расплатился… и сегодня, приплыв в порт, я благодарен за приют, данный потерпевшему кораблекрушение.
Я ещё не предполагал, что эти две Светохны могут быть одной, когда вскоре, зайдя к матери, узнал от Слизиака, что у неё неприятный гость: прибывшая далёкая родственница Светохна, которая некогда ей служила, но из-за легкомысленных привычек та вынести её не может.
Я сам не знал, должен ли воздержаться от посещения матери, оставив её одну со Светохной, или идти туда, чтобы сократить неприятное общение с ней один на один, когда служанка Новойовой пришла мне объявить, чтобы я шёл к госпоже.
Никогда я не любил Светохны по причине её крашенного лица, моложавости, болтливости и фальши; я помнил ей то, что предложила себя для того, чтобы завести меня в засаду, да и отвращение к ней Лухны моему способствовало.
Однако я шёл, готовый всегда исполнить приказание матери.
Я нашёл Светохну ужасающе постаревшей, но ещё более страшно, чем когда-либо, накрашенной, смешно наряженной, с волосами, причёсанными, как у молодой, и голосом, выражающим сильную радость.
Она сидела напротив Навойовой, которая в своей монашеской одежде, с чётками в руке, хмурая, казалось, с отвращением слушает её щебетание.
Когда я входил, Светохна, улыбаясь, повернулась ко мне и фамильярным кивком головы поздоровалась со мной.
– Значит, как я погляжу, всё окончилось счастливо! – воскликнула она. – Только это облачение и покаяние излишние! Господь Бог уже обо всём забыл.
Измерив меня с ног до головы смелым взглядом, она прибавила:
– Сказать по правде, ты вырос красивым мужчиной и прекрасно выглядишь. А что же, – рассмеялась она, – о Лухне забыл?
Я сильно зарумянился, потому что мать устремила на меня глаза.
– Не забыл, – сказал я, не желая лгать, – но…
– Что в глазах, то в голове! Так люди говорят! – добавила Светохна.
– Найдёт он себе, когда придёт время, подходящую пару, – прервала живо мать. – Моя задача – найти ему её и доставить. Не хочу, чтобы он скоро женился, потому что я ревнива. Он бы привязался к жене, а обо мне забыл. Также служба, в которой он остаётся, не позволяет ему жениться.
Я промолчал, затем Светохна повернулась ко мне.
– Но! Вы ведь были или остаётесь ещё при королевичах… знаете, наверное, Каллимаха?
Не знаю, хотела ли она покраснеть, говоря это, потому что белила не позволяли разглядеть румянца, но сделала минку девушки, которая стесняется. Меня это сильно поразило.
– Я каждый день его вижу и имею счастье с ним общаться, и служить ему переводчиком, – сказал я.
– А, таких людей земля наша не рождает! – начала она с пылом. – Под счастливым небом приходят они на свет. Как же его можно даже сравнить с теми нашими грубыми мужчинами, которые ни деликатных чувств, ни обычаев не знают и в крови не имеют. В самом деле, лучшего учителя король своим сыновьям выбрать не мог, – продолжала она с пылом дальше. – Он сам выглядит как королевич!
Мы молча слушали эти дифирамбы. Я не отвечал на них, и только через мгновение спросил, откуда она его знала.
Она явно забеспокоилась и, пощипывая платочек, который она держала на коленях, сказала, не подняв глаз:
– О, это долгая и интересная история! Тогда, пребывая в Покуте, я имела счастье принимать его как гостя. Он был тогда несчастным, чужим, ограбленным в Венгрии. Возможно, ему угрожали тем, что его хотели выдать папе, который наступил ему на горло; поэтому он спрятался под крылья нашего пана. Забрал его потом у меня ксендз-архиепископ, но теперь всё-таки люди о нём узнали. Не правда ли? Король его, возможно, канцлером сделает.
– Не думаю, – отвечал я холодно, – потому что иностранец не может занимать этой должности.
Видя сильное утомление на лице матери, я уже не отвечал, не желая продолжать разговора. Светохна, казалось, собиралась ответить. Она обратилась ко мне только с вопросами: “Где жил Каллимах?”, “Вместе ли с королевичами?” и “Когда бывал дома?”
Я отвечал двусмысленно, что дома его всегда было трудно застать, потому что больше он просиживал в замке при короле, а когда возвращался, тогда его всегда ждало множество людей и всегда окружала толпа.
Она сделала гримасу на это. Свидание всё-таки закончилось, но объявлением, что Светохна хотела снять себе тут дом и на какое-то время остаться в Кракове. Мне легко было догадаться, что делала она это ради Каллимаха, который гостье, должно быть, был не очень рад.
Все уже знали о его новых романах в городе, потому что без этих он жить не мог, утверждая, что поэта могла вдохновить только женщина.
Вечером по поручению короля я должен был идти к итальянцу; я застал его с другом Бонфили, но пасмурным и печальным.
Он не заметил меня, когда я входил, а, увидев потом, не обращая внимания, закончил начатый рассказ приятелю.
– Чёрт возьми! Бабу мне сюда лихо принесло! Она ужасно постарела и стала смешной, желая прикинуться скромной девочкой. Естественно, её любовь настолько возросла, насколько моя остыла. Не могу от неё избавиться, а жизнь мне отравляет!
Он зачитал острый вирш Ювенала, добавил другой, Горация, и только тогда повернулся ко мне.
И, словно что-то припомнил, спросил:
– Ni fallor! Она мне о вас вспоминала? Вы ведь знаете пани Светохну?
– Больше она меня, чем я её, – сказал я холодно. – Я никогда не видел её тут в Кракове.