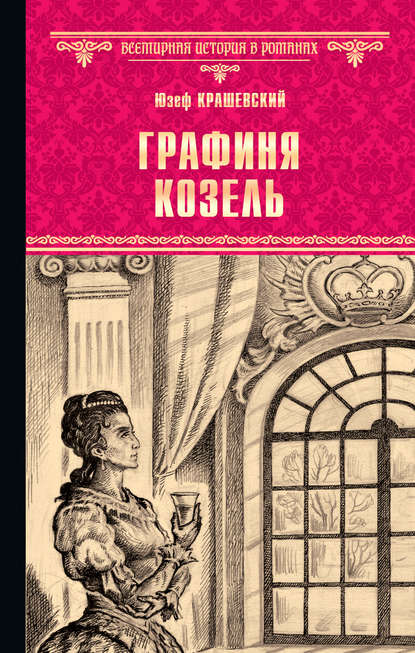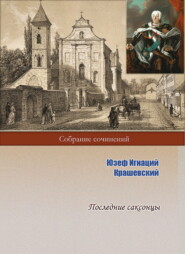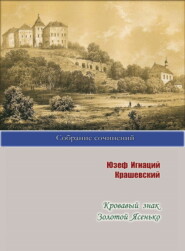По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Графиня Козель
Автор
Жанр
Год написания книги
1873
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды графиня заметила, что недалеко от берега над поверхностью воды виднеется человеческая голова. Она всмотрелась – по горло в воде стоял Заклик.
Страшно разгневавшись, Анна стала звать своих людей, но Раймонд нырнул и исчез. Он едва не утонул, потому что запутался в водорослях, а намокшая одежда тянула ко дну.
С этого времени Заклик как будто скрылся, на самом же деле он отыскал другую засаду и все глаза просмотрел, глядя целые дни на недоступную красавицу…
Знала об этом Анна или нет, но только в Лаубегасте о Заклике уже больше не говорили.
При дворе им тоже не интересовались: король, может быть, даже был бы и очень доволен, если бы он себе свернул где-нибудь шею.
К королю только раз призвали Заклика: это было, когда Август, будучи сильно разгневан, одним взмахом сабли отрубил голову громадному коню. Мощный владыка хотел доказать, что это подвиг, которого ни за что не сделает славный Заклик. Привели старую, костлявую солдатскую клячу. Заклику посоветовали, чтобы он, если дороги ему свобода и королевская милость, слукавил и не обнаруживал своей силы; но простодушный парень подумал, что если дело идет о том, чтобы померяться силой, то надо не ударить лицом в грязь.
В присутствии короля, всей знати и двора он выбрал добрый палаш и, как бритвой, отхватил голову кляче.
Потом он сам говорил, что рука с неделю болела, да ничего, зажила.
Король не сказал ни слова, только плечами пожал. На Заклика никто и смотреть не хотел, а те из придворных, которые с ним были поближе, советовали ему убираться из Дрездена, пока цел, и предсказывали, что при малейшем удобном случае не миновать ему Кенигштейна.
Раймонд не хотел об этом и слушать.
А король в это время о нем не забывал и вдруг захотел испробовать, сколько Заклик может выпить вина, но Заклик пил лишь воду и изредка только стакан пива или рюмку вина – и больше не мог.
Насильно влили ему в горло стакан венгерского; он тут же свалился с ног, неделю пролежал больной и чуть не схватил горячку. Но придя в себя и выздоровев, он, казалось, стал еще сильнее, снова начал ходить в Лаубегаст, высматривать свою красавицу.
Эта любовь сделала Заклика другим человеком. Он стал серьезнее, принялся за науки, и даже наружность его изменилась.
Графиня Анна, не имевшая тайн от мужа и от его сестры, о Заклике им ни разу не рассказала. Казалось, не видя и не встречая его больше, она и сама о нем забыла.
День в Лаубегасте кончался очень рано: чуть темнело, уж запирали ворота и двери на ключи и на засовы, собак спускали с цепей на двор, слуги ложились все спать, а сама хозяйка если и засиживалась иногда при свечах, коротая скучное время за книжкой, то об этом никто не знал.
В ту самую ночь, когда пировали в замке, по полям бушевал такой страшный осенний ветер, так страшно ломал и крушил ветви и целые деревья, что в Лаубегасте никто и не думал о сне.
Анна разделась и, лежа в постели, читала Библию, в которой любимыми были Апокалипсис и послания апостола Павла… Много она размышляла и нередко плакала над этим благочестивым чтением.
Была поздняя ночь, и в комнате уже догорала вторая восковая свеча, когда около дома послышался страшный стук, потом кто-то стал ломиться в железные ворота. Спущенные цепные собаки начали так ожесточенно метаться и громко лаять, что хозяйка почувствовала тревогу.
Анна начала звонить и подняла на ноги всю дворню; стук у ворот и собачий лай не прекращались.
Люди вышли на всякий случай с оружием.
За воротами шумел и кричал королевский курьер, рядом стояла запряженная шестериком карета с придворными ливрейными лакеями. Собак тотчас посадили на цепь, отворили ворота и приняли от курьера письмо графа.
Когда Анне подали письмо, она подумала, что случилось недоброе… Она побледнела, но, узнав почерк мужа, хотя немного дрожащий и неровный, стала спокойнее. В уме мелькнула судьба канцлера Бейхлинга, который в одну ночь лишился всего, что имел, и из королевских любимцев попал в кенигштейнские узники. Гойм тоже не раз говорил ей наедине, что не будет считать себя в безопасности, пока не переберется за границу со всем имуществом.
Всем было известно, что расположенность Августа не надежна, что чем добрее был король, тем более нужно было его опасаться. И Анна беспокоилась за мужа, потому что все государство ненавидело его за введение акцизных сборов, повсюду у него были враги и недоброжелатели.
Прочитав письмо, она немедленно велела готовиться к отъезду, и не прошло и часа, как ворота тихого домика захлопнулись за каретой, которая навсегда увозила его хозяйку…
Странные мысли приходили Анне на ум, овладевал какой-то страх и тоска…
Все знали уже о возвращении короля после долговременной отлучки. С ним возвращались в Дрезден интриги, козни, происки, при которых все средства становятся хороши и позволительны. Там часто происходили вещи, на первый взгляд пустые и веселые, а на самом деле трагические.
В то же самое время, когда злополучные жертвы томились в темных казематах или гибли на плахе, бальная музыка возвещала торжество победителей… Не раз Анна издали глядела на синеющую кенигштейнскую скалу, где погребено заживо столько тайн и столько живых мертвецов…
Дорогу освещала придворная прислуга, ехавшая впереди с фонарями, и благодаря этому лошади мчали быстро…
Анна не успела оглянуться, как ее карета уже остановилась перед домом на Пирнейской улице. Хотя прислуга еще дожидалась министра, но люди спали.
В доме, в котором Гойм занимал только первый этаж, Анна даже не имела особых покоев. Было здесь только несколько комнат да спальня мужа, которая внушала ей отвращение. Сверх того тут были еще канцелярия и архив для бумаг. Кабинет министра прилегал к большой, богато убранной, но мрачной и скучной гостиной.
Графиня удивилась, когда не застала мужа дома, но прислуга передала ей, что это была королевская ночь и что после подобных пирушек пребывание гостей в замке обыкновенно продолжалось до утра и даже дольше.
Чувствуя необходимость отдохнуть, Анна прошла в дом.
Она выбрала гостиную, лежащую по ту сторону канцелярии, совсем отдельно от прочих комнат, и приказала устроить себе тут маленькую походную постель, потом, отпустив служанку, постаралась хоть немножко уснуть. Но сон не приходил, она только дремала, просыпалась и вскакивала при малейшем шорохе.
Уже было совсем светло, когда она уснула, но тотчас же ее разбудили шум отворяющейся двери и шаги в кабинете. Полагая, что это был муж, она вскочила и стала при помощи горничной как можно скорее одеваться.
Туалет был утренний, довольно небрежный и шел ей необыкновенно. Усталость после дороги и беспокойство придавали еще больше блеска ее царственной, беспримерной красоте. Она нетерпеливо дернула дверь, отделяющую ее от кабинета, отворила ее и остановилась на пороге.
Перед ней вместо мужа стоял совершенно незнакомый человек, осанка и лицо которого произвели на нее самое странное впечатление.
Это был пожилой человек в длинном черном костюме протестантского пастора, с плешивой, лоснящейся головой, на которой торчали лишь несколько клочков седых волос. Пожелтевшая кожа так крепко обтягивала его череп, что все жилы обрисовывались самым явственным образом. Серые впалые глаза, горькая улыбка, какое-то важное и вместе с тем презрительное спокойствие – все это придавало некрасивому лицу что-то такое, от чего нельзя было оторваться.
Анна молча смотрела на него, а он, по-видимому, был не менее поражен ею и стоял неподвижно, выпучив глаза, в которых невольно изобразилось восхищение при виде этого совершеннейшего создания.
С минуту они стояли, глядя друг на друга, и наконец он невольно отступил, взглянув на нее, спросил:
– Кто ты такая?
III
– Я имею больше прав спросить вас, кто вы и для чего вы здесь в моем доме?
– В вашем доме? – повторил с удивлением старик. – Не должно ли это значить, что я имею честь видеть перед собой супругу господина министра?
Анна кивнула молча головой. Пастор взглянул на нее взором жалости, и его слабая, неказистая фигурка, казалось, вдруг ожила, облагородилась и выросла, стала так почтенна и величественна, что графиня почувствовала себя при этом человеке несмелой, робкой, покорной и послушной, как малый ребенок. Между тем старик заговорил:
– Зачем ты, которую Всевышний создал для своего прославления как чудное, полное веры и света созданье, зачем ты, существо, достойное сообщества ангелов, не отряхнешь от своих ног прах, приставший к ним от этого нечистого Вавилона и не убежишь отсюда? Зачем стоишь ты здесь, не боясь, а может быть, и не подозревая опасности? Давно ли ты тут?
Анну ошеломили эти слова, но голос старика производил на нее такое хорошее впечатление, что она была готова ему отвечать, но он прервал ее и продолжал:
– Знаешь ли, где ты? Знаешь ли ты, что земля под твоими ногами колеблется? Что эти стены разверзаются по одному слову, что здесь жизнь человека ничего не стоит… И все это ради минутной прихоти?
– Что за страшные картины рисуете вы мне, мой отец, – прервала его графиня Гойм, – и зачем вы хотите меня запугать?
– Все это я делаю потому, что по светлым твоим глазам и челу твоему, дитя мое, я вижу, как ты невинна и не сведуща, и не подозреваешь ничего того, что угрожает тебе. Ты, верно, недавно здесь?
– Всего несколько часов, – улыбнувшись, отвечала графиня.
Страшно разгневавшись, Анна стала звать своих людей, но Раймонд нырнул и исчез. Он едва не утонул, потому что запутался в водорослях, а намокшая одежда тянула ко дну.
С этого времени Заклик как будто скрылся, на самом же деле он отыскал другую засаду и все глаза просмотрел, глядя целые дни на недоступную красавицу…
Знала об этом Анна или нет, но только в Лаубегасте о Заклике уже больше не говорили.
При дворе им тоже не интересовались: король, может быть, даже был бы и очень доволен, если бы он себе свернул где-нибудь шею.
К королю только раз призвали Заклика: это было, когда Август, будучи сильно разгневан, одним взмахом сабли отрубил голову громадному коню. Мощный владыка хотел доказать, что это подвиг, которого ни за что не сделает славный Заклик. Привели старую, костлявую солдатскую клячу. Заклику посоветовали, чтобы он, если дороги ему свобода и королевская милость, слукавил и не обнаруживал своей силы; но простодушный парень подумал, что если дело идет о том, чтобы померяться силой, то надо не ударить лицом в грязь.
В присутствии короля, всей знати и двора он выбрал добрый палаш и, как бритвой, отхватил голову кляче.
Потом он сам говорил, что рука с неделю болела, да ничего, зажила.
Король не сказал ни слова, только плечами пожал. На Заклика никто и смотреть не хотел, а те из придворных, которые с ним были поближе, советовали ему убираться из Дрездена, пока цел, и предсказывали, что при малейшем удобном случае не миновать ему Кенигштейна.
Раймонд не хотел об этом и слушать.
А король в это время о нем не забывал и вдруг захотел испробовать, сколько Заклик может выпить вина, но Заклик пил лишь воду и изредка только стакан пива или рюмку вина – и больше не мог.
Насильно влили ему в горло стакан венгерского; он тут же свалился с ног, неделю пролежал больной и чуть не схватил горячку. Но придя в себя и выздоровев, он, казалось, стал еще сильнее, снова начал ходить в Лаубегаст, высматривать свою красавицу.
Эта любовь сделала Заклика другим человеком. Он стал серьезнее, принялся за науки, и даже наружность его изменилась.
Графиня Анна, не имевшая тайн от мужа и от его сестры, о Заклике им ни разу не рассказала. Казалось, не видя и не встречая его больше, она и сама о нем забыла.
День в Лаубегасте кончался очень рано: чуть темнело, уж запирали ворота и двери на ключи и на засовы, собак спускали с цепей на двор, слуги ложились все спать, а сама хозяйка если и засиживалась иногда при свечах, коротая скучное время за книжкой, то об этом никто не знал.
В ту самую ночь, когда пировали в замке, по полям бушевал такой страшный осенний ветер, так страшно ломал и крушил ветви и целые деревья, что в Лаубегасте никто и не думал о сне.
Анна разделась и, лежа в постели, читала Библию, в которой любимыми были Апокалипсис и послания апостола Павла… Много она размышляла и нередко плакала над этим благочестивым чтением.
Была поздняя ночь, и в комнате уже догорала вторая восковая свеча, когда около дома послышался страшный стук, потом кто-то стал ломиться в железные ворота. Спущенные цепные собаки начали так ожесточенно метаться и громко лаять, что хозяйка почувствовала тревогу.
Анна начала звонить и подняла на ноги всю дворню; стук у ворот и собачий лай не прекращались.
Люди вышли на всякий случай с оружием.
За воротами шумел и кричал королевский курьер, рядом стояла запряженная шестериком карета с придворными ливрейными лакеями. Собак тотчас посадили на цепь, отворили ворота и приняли от курьера письмо графа.
Когда Анне подали письмо, она подумала, что случилось недоброе… Она побледнела, но, узнав почерк мужа, хотя немного дрожащий и неровный, стала спокойнее. В уме мелькнула судьба канцлера Бейхлинга, который в одну ночь лишился всего, что имел, и из королевских любимцев попал в кенигштейнские узники. Гойм тоже не раз говорил ей наедине, что не будет считать себя в безопасности, пока не переберется за границу со всем имуществом.
Всем было известно, что расположенность Августа не надежна, что чем добрее был король, тем более нужно было его опасаться. И Анна беспокоилась за мужа, потому что все государство ненавидело его за введение акцизных сборов, повсюду у него были враги и недоброжелатели.
Прочитав письмо, она немедленно велела готовиться к отъезду, и не прошло и часа, как ворота тихого домика захлопнулись за каретой, которая навсегда увозила его хозяйку…
Странные мысли приходили Анне на ум, овладевал какой-то страх и тоска…
Все знали уже о возвращении короля после долговременной отлучки. С ним возвращались в Дрезден интриги, козни, происки, при которых все средства становятся хороши и позволительны. Там часто происходили вещи, на первый взгляд пустые и веселые, а на самом деле трагические.
В то же самое время, когда злополучные жертвы томились в темных казематах или гибли на плахе, бальная музыка возвещала торжество победителей… Не раз Анна издали глядела на синеющую кенигштейнскую скалу, где погребено заживо столько тайн и столько живых мертвецов…
Дорогу освещала придворная прислуга, ехавшая впереди с фонарями, и благодаря этому лошади мчали быстро…
Анна не успела оглянуться, как ее карета уже остановилась перед домом на Пирнейской улице. Хотя прислуга еще дожидалась министра, но люди спали.
В доме, в котором Гойм занимал только первый этаж, Анна даже не имела особых покоев. Было здесь только несколько комнат да спальня мужа, которая внушала ей отвращение. Сверх того тут были еще канцелярия и архив для бумаг. Кабинет министра прилегал к большой, богато убранной, но мрачной и скучной гостиной.
Графиня удивилась, когда не застала мужа дома, но прислуга передала ей, что это была королевская ночь и что после подобных пирушек пребывание гостей в замке обыкновенно продолжалось до утра и даже дольше.
Чувствуя необходимость отдохнуть, Анна прошла в дом.
Она выбрала гостиную, лежащую по ту сторону канцелярии, совсем отдельно от прочих комнат, и приказала устроить себе тут маленькую походную постель, потом, отпустив служанку, постаралась хоть немножко уснуть. Но сон не приходил, она только дремала, просыпалась и вскакивала при малейшем шорохе.
Уже было совсем светло, когда она уснула, но тотчас же ее разбудили шум отворяющейся двери и шаги в кабинете. Полагая, что это был муж, она вскочила и стала при помощи горничной как можно скорее одеваться.
Туалет был утренний, довольно небрежный и шел ей необыкновенно. Усталость после дороги и беспокойство придавали еще больше блеска ее царственной, беспримерной красоте. Она нетерпеливо дернула дверь, отделяющую ее от кабинета, отворила ее и остановилась на пороге.
Перед ней вместо мужа стоял совершенно незнакомый человек, осанка и лицо которого произвели на нее самое странное впечатление.
Это был пожилой человек в длинном черном костюме протестантского пастора, с плешивой, лоснящейся головой, на которой торчали лишь несколько клочков седых волос. Пожелтевшая кожа так крепко обтягивала его череп, что все жилы обрисовывались самым явственным образом. Серые впалые глаза, горькая улыбка, какое-то важное и вместе с тем презрительное спокойствие – все это придавало некрасивому лицу что-то такое, от чего нельзя было оторваться.
Анна молча смотрела на него, а он, по-видимому, был не менее поражен ею и стоял неподвижно, выпучив глаза, в которых невольно изобразилось восхищение при виде этого совершеннейшего создания.
С минуту они стояли, глядя друг на друга, и наконец он невольно отступил, взглянув на нее, спросил:
– Кто ты такая?
III
– Я имею больше прав спросить вас, кто вы и для чего вы здесь в моем доме?
– В вашем доме? – повторил с удивлением старик. – Не должно ли это значить, что я имею честь видеть перед собой супругу господина министра?
Анна кивнула молча головой. Пастор взглянул на нее взором жалости, и его слабая, неказистая фигурка, казалось, вдруг ожила, облагородилась и выросла, стала так почтенна и величественна, что графиня почувствовала себя при этом человеке несмелой, робкой, покорной и послушной, как малый ребенок. Между тем старик заговорил:
– Зачем ты, которую Всевышний создал для своего прославления как чудное, полное веры и света созданье, зачем ты, существо, достойное сообщества ангелов, не отряхнешь от своих ног прах, приставший к ним от этого нечистого Вавилона и не убежишь отсюда? Зачем стоишь ты здесь, не боясь, а может быть, и не подозревая опасности? Давно ли ты тут?
Анну ошеломили эти слова, но голос старика производил на нее такое хорошее впечатление, что она была готова ему отвечать, но он прервал ее и продолжал:
– Знаешь ли, где ты? Знаешь ли ты, что земля под твоими ногами колеблется? Что эти стены разверзаются по одному слову, что здесь жизнь человека ничего не стоит… И все это ради минутной прихоти?
– Что за страшные картины рисуете вы мне, мой отец, – прервала его графиня Гойм, – и зачем вы хотите меня запугать?
– Все это я делаю потому, что по светлым твоим глазам и челу твоему, дитя мое, я вижу, как ты невинна и не сведуща, и не подозреваешь ничего того, что угрожает тебе. Ты, верно, недавно здесь?
– Всего несколько часов, – улыбнувшись, отвечала графиня.