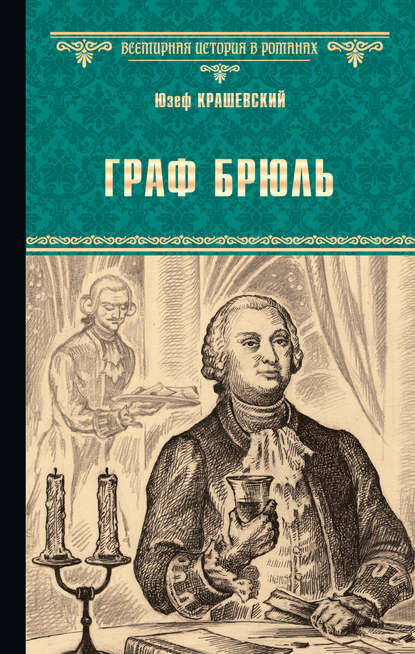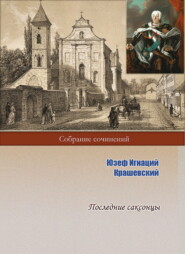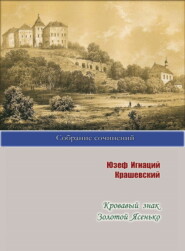По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Граф Брюль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фридрих целовал у отца руку. Камеристы, пажи и служба ожидали его в передней. Тут же стояли чиновники и духовенство, в числе которых был и падре Гуарини, осторожно спрятавшийся в уголок.
Король любезно прощался со всеми. Ловчему он поручил позаботиться о привезенных из Беловежской Пущи зубрах, которые паслись около Морицбурга, и сошел к экипажам.
Почтальоны сидели уже на лошадях, придворные спешили на назначенные им места, на дворе с непокрытыми головами стояли дворяне, городской совет и мещане, на которых король только взглянул и велел им сказать, чтобы они платили подати. Немного спустя во дворце и Дрездене было пусто и тихо.
Все могли отдыхать до тех пор, пока король не воротится и пока опять не начиналась барщина развлекания разочарованного во всем Августа.
В то время, когда весь двор в сопровождении отряда гвардейцев двинулся из дворца на мост, на дворе замка стоял еще одиноко экипаж, который должен был вести Брюля и его имущество. Государев фаворит, только что получив похвалу, сошел на двор, сладко задумавшись; здесь увидал он Сулковского, стоящего с мрачным лицом. Брюль быстро подбежал и схватил друга за руку. Они вошли в нижнюю залу.
На лице Брюля рисовались живое участие, горячая любовь, искренняя привязанность. Сулковский был холоден.
– Как же я счастлив, что могу еще раз попрощаться с вами, еще раз могу поручить себя вашей памяти и сердцу! – воскликнул он с чувством.
– Послушай, Брюль, – прервал его Сулковский, – я тоже припоминаю тебе наш договор; что бы ни случилось, – мы всегда будем друзьями!
– Разве нужно это напоминать мне, питающему к вам любовь, дружбу, уважение, благодарность?
– Дай же мне их доказательства.
– Я жду только счастливого случая, чтобы доказать вам это. Доставьте мне его – и я упаду вам в ноги, – прервал Брюль. – Я прошу, умоляю, граф! Любезный граф, я-то ваш, но вы не забывайте меня. Вы знаете, что у меня на сердце.
– Франциска Коловрат! – сказал, смеясь, Сулковский. – О, будьте спокойны, она будет вашей. На вашей стороне мать.
– Но она сама?
– Не бойся, ее никто не станет завлекать. Нужно обладать таким мужеством, как у тебя, чтобы рассчитывать на такое счастье.
– Меня уже обошло одно и побольше этого, – вздохнул Брюль.
Сулковский, смеясь, похлопал его по плечу.
– Ах ты, плут, неужели ты думаешь, что при дворе что-нибудь скроется? То, что ты называешь потерей, очевидный выигрыш. Мошинский ненавидит тебя не без причины.
Брюль горячо начал отрицать и поднял руки.
– Но… граф…
– Нечего притворяться, не тебе бы говорить это; ты знаешь Мошинскую и находишься с ней в лучших отношениях, чем если бы она была твоей женой.
Брюль, не говоря ни слова, пожимал плечами.
– Мое сердце принадлежит Фране Коловрат.
– А рука ее ждет тебя – и ничего, ничего, и ничего. Старая сама тебе ее вручит. Да и Фране пора уже надевать чепчик, потому что глаза ее страшно блестят.
– Как звезды! – крикнул Брюль.
– Что скажет на это Мошинская?
Тут Брюль как бы опомнился после долгого забытья и опять схватил Сулковского за руку.
– Граф, – сказал он, – не забывайте меня перед королевичем; я боюсь, не слишком ли мало выказал свое почтение и свою привязанность к нему и мой восторг и восхищение нашей святой и чистой королевой?
– Не забывайте вы нас перед королем, и я не забуду вас перед моим господином. Впрочем, Брюль, у тебя там есть сторонники. Отец Гуарини обращает тебя, графиня Коловрат хочет иметь тебя зятем. Не ручаюсь, что у тебя там нет еще кого-нибудь.
– И все это ничего не значит, если у меня не будет вас. Я отдам и Гуарини, и графиню и еще кое-что в придачу за одну вашу дружбу.
– Только не Мошинскую! – со смехом отвечал Сулковский. – А теперь доброго пути и кланяйся всем моим землякам-медведям.
– А землячкам? – спросил Брюль.
– Только в том случае, если какая-нибудь из них спросит про Сулковского… но сомневаюсь… по-моему, немки лучше.
– И по-моему, тоже, – прибавил Брюль.
Они подошли к дверям, Сулковский его провожал:
– Eh bien, ? la vie et ? la mort![22 - Итак, на жизнь и на смерть!]
Они пожали друг другу руки, и Брюль сел в экипаж. В стороне стоял падре Гуарини в штатском сером длинном сюртуке и, сложив руки, благословлял дорогу. Брюль двинулся за своим государем в Варшаву.
V
Это было в первые дни февраля 1733 года. Утром вернулся Фридрих с охоты из Губертсбурга. Вечером была опера, и петь должна была неподражаемая Фаустина. Королевич, подобно отцу, был поклонником ее голоса и красоты. Она держала в руках весь двор, тиранила соперниц, прогоняла тех, которые имели несчастье не понравиться ей, а когда возвышала голос, то в зале делалось тише, чем в церкви, и если кто в это время чихнет, то мог быть уверен, что приобрел в ней непримиримого врага. Вечером шла «Клеофида», и королевич Фридрих радовался заранее.
Был послеобеденный час; надев богатый и удобный шелковый халат, королевич с трубкой в руке сидел в кресле и переваривал пищу с тем наслаждением, которое дает здоровый желудок и великолепная кухня.
Напротив него стоял Сулковский. Временами король посматривал на друга, улыбался и, не говоря ни слова, опять затягивался пахучим дымом.
Друг и слуга радостно смотрел на своего довольного господина и в молчании разделял его счастье.
Лицо молодого королевича сияло; по привычке, будучи счастливым, он говорил очень мало, а только размышлял, но о чем, никто никогда не знал. Иногда он поднимал опущенную голову и пристально всматривался на Сулковского, который отвечал ему взглядом; тогда он произносил:
– Сулковский!
– Слушаю!
Фридрих наклонял голову, и этим кончался разговор. Проходило четверть часа, королевич переменял вопрос и ласково звал его по имени, говоря по-итальянски. Граф отвечал, и опять наступало молчание.
Королевич говорил очень редко и то только тогда, когда было необходимо; он не любил ничего неожиданного. Жизнь его должна была плыть тихо, спокойно, без волнений и остановок.
Он особенно любил послеобеденные часы, в которые не принимал никого, исключая только близких и любимых им лиц. Утром он должен был принимать, слушать, кланяться, подписывать, иногда удивляться, время от времени немного посердиться. После таких усилий послеполуденный отдых был ему донельзя приятен.
Если в театре не было представлений, он шел вечером к Жозефине, слушал музыку мечтая, и день оканчивался ужином.
Никогда придворные не имели господина, который бы менее его нуждался в удовольствиях. Для него было вполне достаточным, чтобы один день походил на следующий, как две капли воды.
Как раз начинался послеобеденный кейф, и королевич курил вторую трубку, когда Сулковский, заметив что-то через окно, медленно направился к дверям. Глаза королевича последовали за ним.
Король любезно прощался со всеми. Ловчему он поручил позаботиться о привезенных из Беловежской Пущи зубрах, которые паслись около Морицбурга, и сошел к экипажам.
Почтальоны сидели уже на лошадях, придворные спешили на назначенные им места, на дворе с непокрытыми головами стояли дворяне, городской совет и мещане, на которых король только взглянул и велел им сказать, чтобы они платили подати. Немного спустя во дворце и Дрездене было пусто и тихо.
Все могли отдыхать до тех пор, пока король не воротится и пока опять не начиналась барщина развлекания разочарованного во всем Августа.
В то время, когда весь двор в сопровождении отряда гвардейцев двинулся из дворца на мост, на дворе замка стоял еще одиноко экипаж, который должен был вести Брюля и его имущество. Государев фаворит, только что получив похвалу, сошел на двор, сладко задумавшись; здесь увидал он Сулковского, стоящего с мрачным лицом. Брюль быстро подбежал и схватил друга за руку. Они вошли в нижнюю залу.
На лице Брюля рисовались живое участие, горячая любовь, искренняя привязанность. Сулковский был холоден.
– Как же я счастлив, что могу еще раз попрощаться с вами, еще раз могу поручить себя вашей памяти и сердцу! – воскликнул он с чувством.
– Послушай, Брюль, – прервал его Сулковский, – я тоже припоминаю тебе наш договор; что бы ни случилось, – мы всегда будем друзьями!
– Разве нужно это напоминать мне, питающему к вам любовь, дружбу, уважение, благодарность?
– Дай же мне их доказательства.
– Я жду только счастливого случая, чтобы доказать вам это. Доставьте мне его – и я упаду вам в ноги, – прервал Брюль. – Я прошу, умоляю, граф! Любезный граф, я-то ваш, но вы не забывайте меня. Вы знаете, что у меня на сердце.
– Франциска Коловрат! – сказал, смеясь, Сулковский. – О, будьте спокойны, она будет вашей. На вашей стороне мать.
– Но она сама?
– Не бойся, ее никто не станет завлекать. Нужно обладать таким мужеством, как у тебя, чтобы рассчитывать на такое счастье.
– Меня уже обошло одно и побольше этого, – вздохнул Брюль.
Сулковский, смеясь, похлопал его по плечу.
– Ах ты, плут, неужели ты думаешь, что при дворе что-нибудь скроется? То, что ты называешь потерей, очевидный выигрыш. Мошинский ненавидит тебя не без причины.
Брюль горячо начал отрицать и поднял руки.
– Но… граф…
– Нечего притворяться, не тебе бы говорить это; ты знаешь Мошинскую и находишься с ней в лучших отношениях, чем если бы она была твоей женой.
Брюль, не говоря ни слова, пожимал плечами.
– Мое сердце принадлежит Фране Коловрат.
– А рука ее ждет тебя – и ничего, ничего, и ничего. Старая сама тебе ее вручит. Да и Фране пора уже надевать чепчик, потому что глаза ее страшно блестят.
– Как звезды! – крикнул Брюль.
– Что скажет на это Мошинская?
Тут Брюль как бы опомнился после долгого забытья и опять схватил Сулковского за руку.
– Граф, – сказал он, – не забывайте меня перед королевичем; я боюсь, не слишком ли мало выказал свое почтение и свою привязанность к нему и мой восторг и восхищение нашей святой и чистой королевой?
– Не забывайте вы нас перед королем, и я не забуду вас перед моим господином. Впрочем, Брюль, у тебя там есть сторонники. Отец Гуарини обращает тебя, графиня Коловрат хочет иметь тебя зятем. Не ручаюсь, что у тебя там нет еще кого-нибудь.
– И все это ничего не значит, если у меня не будет вас. Я отдам и Гуарини, и графиню и еще кое-что в придачу за одну вашу дружбу.
– Только не Мошинскую! – со смехом отвечал Сулковский. – А теперь доброго пути и кланяйся всем моим землякам-медведям.
– А землячкам? – спросил Брюль.
– Только в том случае, если какая-нибудь из них спросит про Сулковского… но сомневаюсь… по-моему, немки лучше.
– И по-моему, тоже, – прибавил Брюль.
Они подошли к дверям, Сулковский его провожал:
– Eh bien, ? la vie et ? la mort![22 - Итак, на жизнь и на смерть!]
Они пожали друг другу руки, и Брюль сел в экипаж. В стороне стоял падре Гуарини в штатском сером длинном сюртуке и, сложив руки, благословлял дорогу. Брюль двинулся за своим государем в Варшаву.
V
Это было в первые дни февраля 1733 года. Утром вернулся Фридрих с охоты из Губертсбурга. Вечером была опера, и петь должна была неподражаемая Фаустина. Королевич, подобно отцу, был поклонником ее голоса и красоты. Она держала в руках весь двор, тиранила соперниц, прогоняла тех, которые имели несчастье не понравиться ей, а когда возвышала голос, то в зале делалось тише, чем в церкви, и если кто в это время чихнет, то мог быть уверен, что приобрел в ней непримиримого врага. Вечером шла «Клеофида», и королевич Фридрих радовался заранее.
Был послеобеденный час; надев богатый и удобный шелковый халат, королевич с трубкой в руке сидел в кресле и переваривал пищу с тем наслаждением, которое дает здоровый желудок и великолепная кухня.
Напротив него стоял Сулковский. Временами король посматривал на друга, улыбался и, не говоря ни слова, опять затягивался пахучим дымом.
Друг и слуга радостно смотрел на своего довольного господина и в молчании разделял его счастье.
Лицо молодого королевича сияло; по привычке, будучи счастливым, он говорил очень мало, а только размышлял, но о чем, никто никогда не знал. Иногда он поднимал опущенную голову и пристально всматривался на Сулковского, который отвечал ему взглядом; тогда он произносил:
– Сулковский!
– Слушаю!
Фридрих наклонял голову, и этим кончался разговор. Проходило четверть часа, королевич переменял вопрос и ласково звал его по имени, говоря по-итальянски. Граф отвечал, и опять наступало молчание.
Королевич говорил очень редко и то только тогда, когда было необходимо; он не любил ничего неожиданного. Жизнь его должна была плыть тихо, спокойно, без волнений и остановок.
Он особенно любил послеобеденные часы, в которые не принимал никого, исключая только близких и любимых им лиц. Утром он должен был принимать, слушать, кланяться, подписывать, иногда удивляться, время от времени немного посердиться. После таких усилий послеполуденный отдых был ему донельзя приятен.
Если в театре не было представлений, он шел вечером к Жозефине, слушал музыку мечтая, и день оканчивался ужином.
Никогда придворные не имели господина, который бы менее его нуждался в удовольствиях. Для него было вполне достаточным, чтобы один день походил на следующий, как две капли воды.
Как раз начинался послеобеденный кейф, и королевич курил вторую трубку, когда Сулковский, заметив что-то через окно, медленно направился к дверям. Глаза королевича последовали за ним.