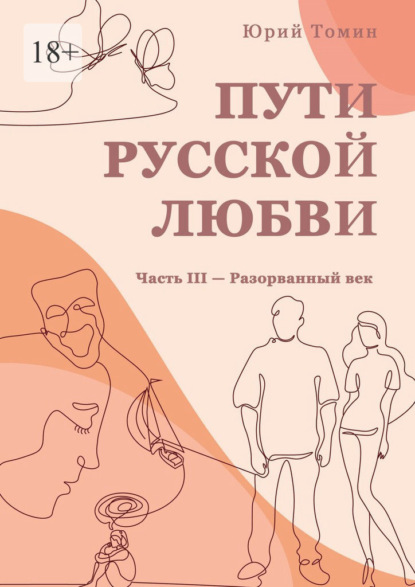По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пути русской любви. Часть III – Разорванный век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом романе Горького много разговоров о любви. Мать Самгина наставляет его, что «все женщины неизлечимо больны одиночеством. От этого – все непонятное вам, мужчинам, неожиданные измены и… всё!» Одна из знакомых девушек Самгина сообщает ему истину, услышанную от философа, «удивительно неряшливого и уродливого», что у человека есть три базовых инстинкта: голод, любовь и познание, – а этот философ, оказывается, был учителем Самгина и сватался к его матери. Напившийся с горя неудавшийся жених в ответ на попытку Самгина утешить его, заметив о недалеком уме избранницы и ее неспособности «понять, за что надо любить», категорично заявляет, что «ум – против любви». Отмеченную Чеховым характерную черту русских, выражающуюся в любви к разговорам о любви, в которых только ставятся вопросы, Горький дополняет презрением к таким пустым разговорам, но при этом наделяет своих героев интенсивным внутренним думанием о любви, связанным с мечтой о ее высоких воплощениях.
Думающий мечтатель Клим Самгин с удивлением отмечает, как вторая любовь, уже не «рядящаяся в романтические надежды», а проявляющаяся как «свободное и разумное желание овладеть девицей», вносит сумятицу в его охраняемые придирчивым разумом воздушные замки. Неожиданная жертвенность Варвары, влюбленной в него бойкой «остроносой девицы», которая оказалась девственницей и тайно сделала аборт, чтобы не обременять Самгина, удивила и воскресила веру в «праздничное» чувство. Ему даже захотелось «сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более и окончательно приблизило бы ее к нему». В отношениях с Варварой ему даже хочется «чувствовать одновременно и за себя, и за женщину», поскольку тогда «любовь была бы совершенней, богаче». Однако спустя три года он думает о том, что «эта женщина уже прочитана им, неинтересна».
Череда последовавших любовей добавляет жалкие крупицы в копилку знаний Клима Самгина о любви, женщинах и самом себе. Любовница Никонова, оказавшаяся агентом жандармов, «в чем-то сильнее или умнее его», позволяет ему выговорить свои самые интимные мысли – «сор своей души», так что он даже ощущает желание иметь от нее ребенка. Живущая своей красотой Алина, отношения которой с поклонниками для души и для тела наблюдает Самгин, подкрепляет умозаключение, сделанное «из опыта своего, из прочитанных им романов» (он читал Шопенгауэра, Ницше, Вейнингера), что женщины «везде, кроме спальни, мешают жить, да и в спальне приятны ненадолго». Сравнивая «задорную» Дуняшу, подругу Алины, с Никоновой, он находит, что «та была удобнее, а эта – лучше всех знает искусство наслаждения телом», и сознает себя «несколько испорченным». А философствующий о своей связи с Алиной доктор Макаров убежден, что «женщина полусознательно стремится раскрыть мужчину до последней черты, чтоб понять источник его власти над нею».
Словно скрупулезный летописец русской сексуальности, Горький по касательной сталкивает Самгина с Мариной Премировой, «пышной девицей» с толстой косой золотистого цвета, которая мужчин воспринимала «страшновато и двуестественно, то – плоть, то – дух», «думала необыкновенно и выразить словами настоящие думы не могла». Опекаемая Мариной жадная до ласки любовница Самгина Нехаева видит в ней типично русское:
Будет много любить; потом, когда устанет, полюбит собак, котов, той любовью, как любит меня. Такая сытая, русская.
Но «монументальная» Марина, воплотившаяся в «умную и властную женщину», находит иной, скрытный путь любви – она становится кормчей религиозной антихристианской секты, проповедующей «веру в дух жизни» и сплоченной хлыстовскими радениями, посмотреть на которые в щелочку она приглашает Самгина, хотя понимает, что это ему чуждо.
Образцовый русский интеллигент Самгин, «уважающий внутреннюю свободу», осознает бессилие своих индивидуальных качеств перед лицом «бесконечного ряда глупых, пошлых, а в общем все-таки драматических эпизодов», отягощающих человека «ненужным грузом», так что он, «загроможденный, подавленный ими, перестает чувствовать себя, свое сущее, воспринимает жизнь как боль». Он находит убежище от кошмара жизни, «распределяя пережитое между своими двойниками» – их много, но все они одинаково чужды ему.
Возможно, если бы Горький продолжил жизнеописание, оборвавшееся внезапной смертью назначенного «официальным» писателя от простуды в шестьдесят восемь лет, типичного русского интеллигента, затянутого в водоворот войн и революций, он наградил бы встречей с необыкновенной женщиной, умеющей любить мужчин, такой как Мария Закревская, которая стала для знаменитого литератора последней желанной, но все же неуловимой любовью. Она бы смогла деликатно, но твердо поддерживать его поклонение разуму, для которого «нет ничего святого, ибо он сам есть святая святых и сам бог», и при этом быть «жизнеспособной», «неимоверно обаятельной», «хозяйкой своей собственной судьбы», так что ей были бы простительны близкие отношения с другими великими людьми и иными, даже темными, силами[3 - Мария Игнатьевна Закревская (в замужестве – графиня фон Бенкендорф, затем баронесса фон Будберг) была любовницей британского дипломата и агента секретной службы Брюса Локкарта. Ее боготворили и предлагали вступить в брак Максим Горький и Герберт Уэллс. О ней говорили, что она «была аристократкой», «руссейшей из русских» и «умела любить мужчин».].
Согласно некоторым толкователям творчества Михаила Булгакова, другого знаменитого писателя, молодого современника Горького, в вызывающем заслуженные восторги и споры романе «Мастер и Маргарита» в образе Мастера представлен Горький. Тогда мы можем последовать за еле уловимыми связующими разорванный век русской любви нитями и познакомиться с обликом идеальной женщины, которая может любить и помогать мужчине, отчаянно и глубоко поглощенному думами о судьбе человечества.
II
Оправданный риск. Быстрая любовь. Бабы в прошлом. Женская свобода. Тревожные желтые цветы. Борьба за любовь. Замена своей природы. Самый тяжелый порок. Освобождение любовью. Несвойственное милосердие
В знаменитом романе Михаил Булгаков, словно увлекшись своим «диковинным», но «правдивым повествованием», обращается к читателям, идя на риск и обещая то, что еще никогда никакому литератору не удавалось:
За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!
Так вызывающе твердо мог рисковать своей профессиональной репутацией лишь тот, кто, во-первых, сам испытал настоящую любовь, а во-вторых, был уверен в своем художественном таланте. Та любовь, которую переживал автор и о которой захотел рассказать всему миру, случилась у Булгакова с третьей женщиной, ставшей его женой.
Елена Шиловская, тридцатипятилетняя домохозяйка, жена советского военачальника, мать двоих детей, сохранившая любовь «к жизни, к шуму, к людям, к встречам» и воплощающая свои «неистраченные силы» лишь в «мыслях, выдумках и фантазиях», познакомилась в феврале 1929 года со сделавшим себе имя в театральных кругах драматургом, человеком с «сатирическим» складом ума. Произошло какое-то колдовство, и они стали почти ежедневно встречаться, охваченные «быстрой любовью», в то время как в марте с репертуара театров сняли все пьесы Булгакова, а в июле в отчаянии, «доведенный до нервного расстройства», он написал Сталину письмо с просьбой об «изгнании» его из страны.
К этому времени сошли на нет «удобные» отношения со второй женой Любовью Белозерской, которая училась балету, прошла эмиграцию, танцевала в Париже, работала в берлинской газете, где печатался Булгаков, и была компетентна «в смысле литературы», по мнению первой жены Татьяны Лаппы, которая привыкла к «творческим» увлечениям мужа и не ожидала, что он нарушит свое обещание: «Тебе не о чем беспокоиться – я никогда от тебя не уйду». В Белозерской он нашел не только интересного рассказчика о мытарствах русских эмигрантов, жизни за границей и помощника в издательских заботах – «бабу бойкую и расторопную», но и «чем-то милую и сладкую» женщину, так что обнаружил себя в неожиданном состоянии – все большей влюбленности в собственную жену. Неизвестно, что оборвало это «ужасно глупое» чувство, – поводы для «легкой ревности», «разоблачение», что Любовь ради жилплощади, или ее уничтожающее: «Но ты же не Достоевский!» – только встреча с настоящей любовью на этот раз не омрачилась горечью предательства и неисполненного долга.
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891?1940)
Спустя пять лет, когда улеглись страсти двухлетнего тайного романа и выяснения отношений с мужем, вооруженным пистолетом, вынужденной полуторагодовой разлуки и новой встречи уже навсегда, Булгаков, работая над пьесой о последних днях Пушкина, вкладывает в уста Натальи Николаевны не свойственное той эпохе самооправдание:
Почему никто и никогда не спросил меня, счастлива ли я? С меня умеют только требовать. Но кто-нибудь пожалел меня когда? Что еще от меня надобно? Я родила ему детей и всю жизнь слышу стихи, только стихи…
Более того, к пушкинской драме, оказывается, причастны совсем иные силы:
Гибель великого гражданина совершилась потому, что в стране неограниченная власть вручена недостойным лицам, кои обращаются с народом, как с невольниками…
В отличие от Дантеса, который, по уверениям своего приемного отца, «никого не любит» и «ищет наслаждения», Булгаков был влюблен по-настоящему, а красный командир с благородной дворянской закваской под влиянием веяний о женской свободе в отличие от «бретера» Пушкина мог позволить себе отпустить жену к другому человеку, раз у нее «родилось серьезное и глубокое чувство».
В своем фантасмагорическом романе, рисуя картину «верной, вечной любви», Булгаков решает коллизию Пушкина-Дантеса, сосредоточив гениальное творчество, непреодолимую страсть и жажду настоящей любви в одном персонаже – Мастере и выведя за скобки событий, окружающих роковую встречу с ней, украшенной «тревожными желтыми цветами», как ревнивца бретера, так и благородного мужа. А чем бы отличалась и что же было более всего необходимо женщине, которая бы воплотила такую любовь? Нет, она бы не блистала фарфоровой красотой, как Натали, а только бы в ее глазах «всегда горел какой-то непонятный огонечек», и ей бы был нужен «не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги», а «он, мастер». Мастер как спутник, ведущий по жизни. Ее возлюбленный должен провидеть иную, «покойную» жизнь и быть одним из ее земных созидателей, пусть даже и обреченных на тернистый путь. Тогда станет незыблемым уважение к нему, неиссякаемым желание поддерживать его работу, неумолимым стремление участвовать в его грандиозном замысле и непоколебимой готовность борьбы за свою любовь.
Каким же образом может сберечь свою высокую любовь Маргарита-Натали, когда сквозь века продолжают вершить судьбы людей все такие же «недостойные лица»? Только заключив сделку с теми, кто обладает гораздо большей властью, но не там, в светлом мире, а здесь, на грешной земле. Чтобы вернуть своего Мастера, раздавленного критиками и доносами «добрых людей», Маргарита идет на «замену своей природы» – становится ведьмой. Но ни служба сатане на «великом балу», ни месть обидчикам Мастера не являются главными подвигами любящей Маргариты. Обретенная в любви сила позволяет ей не просто «разделить участь» Мастера, возненавидевшего свой принесший одни несчастия роман, наполненного страхом и малодушием, но и начать думать за него, ручаясь, «что все будет ослепительно хорошо».
Однако что же Булгаков выводит как конечную метафизическую цель верной любви? Неужели «вечный дом» с «венецианским окном и вьющимся виноградом», тишину, а вечером – музыку Шуберта, прогулки «со своею подругой под вишнями» и сон «с улыбкой на губах»? Почему бы и нет, ведь это выглядит как царский подарок. Но все же главное в другом – любовь освобождает Мастера.
Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя.
Остается только расшифровать то, от чего освободился Мастер благодаря волшебной силе любви. В романе говорится, что «память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать». Известно, что Понтий Пилат страдал из-за собственной трусости – «самого тяжкого порока», и этот грех был ему в конце концов прощен. Тогда за неимением прямых свидетельств мы можем только предполагать, какие несовершенства собственной природы и грехи тяготили Мастера. О себе же Булгаков говорил, что в прошлом «совершил пять роковых ошибок[4 - Возможно, среди этих роковых ошибок было употребление морфия, от сильной зависимости к которому помогла избавиться первая жена, и соучастие в ее двух абортах.]», из которых две вследствие «припадка нежданной, налетевшей как обморок робости». И он, надо полагать, дорого бы дал за то, чтобы «кто-то» простил ему эти слабости человеческой природы, освободив беспокойную память для полного счастья в обретенной светлой любви.
Отметим еще одну черту, выделяемую Булгаковым в сделке с нечистой силой по «замене своей природы» ради любви. Маргарита сохраняет несвойственное ведьме милосердие по отношению к детоубийце Фриде и носителю позорной славы Понтию Пилату. Однако ее милосердие не жалость, исторгаемая из слабой души, а борьба за собственное достоинство – ответственность за того, кому дал надежду. И ей известно, что нарушивший это правило, уронивший свое достоинство не будет «иметь покоя всю жизнь». В случае с Понтием Пилатом в ней говорит голос разума, подсказывающий, что в наказании вечным одиночеством за единожды проявленное малодушие нет справедливости. И высшие силы идут ей навстречу.
«Ну, хорошо, – подумает кто-то из въедливых читателей романа, – а в чем же особая заслуга Мастера, чем он-то оправдывает неземную любовь и освобождение от мучений памяти?» Скорее всего, в том, что ему удалось «угадать», что творилось в душе Понтия Пилата, когда тот был вынужден принимать фатальное решение о судьбе «бродячего философа», так же как и то, что было нужно женщине, в глазах которой таилось «необыкновенное, никем не виданное одиночество», а в руках были «отвратительные, тревожные желтые цветы». В этом своем качестве – понимать душу близкого тебе человека – и заключается главное свойство настоящей любви, поскольку оно сопричастно божественному провидению, вольному даже освобождать от, казалось бы, самых тяжких грехов[5 - Уверенность гетевского Фауста в том, что его возлюбленная Маргарита не злонамеренна в гибели своей матери, брата и избавлении от новорожденной, совпадает с «голосом свыше»: «Спасена!»].
Своей правдивой историей о вечной любви, отражающей его собственную третью, удачную попытку, Булгаков дает наглядную иллюстрацию аналитическим наблюдениям испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета[6 - «Этюды о любви» Хосе Ортега-и-Гассета публиковались в испанской газете в 1926—1927 годах.] над зигзагами подлинной любви, который считал, что те, кому свойственны «характеры беспокойные и щедрые, характеры неисчерпаемых возможностей и блестящих предназначений», в течение жизни претерпевают «две-три трансформации, суть различные фазы единой душевной траектории». А эти трансформации совпадают с «глубоким чувством любви», которое «охватывает любого нормального мужчину два-три раза в жизни», причем «новому ощущению жизни соответствует новый тип женщины». Можно, правда, отметить, что к изящным теоретическим построениям испанского философа русский писатель добавляет необходимость на каждом «новом этапе» каким-то образом и заведомо высокой ценой освободить «беспокойную память».
Обратим внимание, что нереальность описываемых Булгаковым событий приводит героев романа в сумасшедший дом. Там Мастер рассказывает плохому поэту, как он встретил свою верную любовь, а поэт, решивший изменить свою жизнь, делится подробностями встречи с сатаной. В булгаковском романе это лишь эпизод, а у других современных ему литераторов попытка изобразить высокую любовь шаблонно заканчивается либо сумасшествием, либо гибелью охваченных роковой страстью персонажей, а порой доводит до нервного срыва и самих писателей.
III
Сумасшествие от любви. Под властью женщины. Грамматика любви. Картина первой любви. Исчезновение времени. Сострадающая нежность. Весы любви. Глубинные течения. Сборка личности. Нестерпимость вечной неразлучности. Подлое оскорбление. Возврат к подлинности. Самообман любви. Жизненный компас
В 1928 году будущий нобелевский лауреат Иван Бунин опубликовал рассказ «Конец Мопассана», где в связи с годовщиной смерти великого французского новеллиста, финальный возраст которого он уже превзошел на пятнадцать лет, описал его последние дни в сумасшедшем доме. Приводя подробности безумного поведения Мопассана – «в его бреду постоянно одно и то же: убийства, преследования, бог, смерть, деньги…», – Бунин поражается тому, что «так выражаются теперь у него его прежние сложные, мучительные мысли, столько раз с такой точностью, с такой красотой и изяществом высказанные им!». После знакомства с романом Булгакова нам не покажется удивительным, что Мопассан также стремился изгнать забравшегося в его больничную палату дьявола.
Бунин находил в Мопассане как «превосходные» места, так и «сущие пустяки», «пошлые наброски», но считал его (практически повторяя фразу Толстого[7 - В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894) Лев Толстой признает художественный талант французского писателя, «столь искренно считавшего, что все благо, весь смысл жизни в женщине, в любви, и с такой силой страсти описывавшего со всех сторон женщину и ее любовь», но сомневается в его правильном «нравственном отношении» к жизни. Поэтому на его романах «лежит печать равнодушия, поспешности, выдуманности» и «для нас остается все-таки совершенно непонятным, каким образом все мужья всегда дураки, cocus и ridicules (рогоносцы и комичны), a все любовники, которые в конце концов женятся и делаются мужьями, не только не ridicules и не cocus, но героичны? И еще менее понятно то, каким образом все женщины распутные, а все матери святые?» Толстой сочувствует Мопассану, как талантливому писателю, имевшему, но не сумевшему воплотить самые благородные намерения: «Он хотел восхвалять любовь, но чем больше узнавал, тем больше проклинал ее. Он проклинает ее и за те бедствия и страдания, которые она несет с собою, и за те разочарования, и, главное, за ту подделку настоящей любви, за тот обман, который есть в ней и от которого тем сильнее страдает человек, чем доверчивее он предается этому обману».]) выдающимся в том, что «он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины». Эта власть, можно предположить, также довлела над жизнью и творчеством самого Ивана Бунина, несмотря на его внешне цельный и твердый характер.
Иван Алексеевич Бунин (1870?1953)
В рассказе «Грамматика любви» мы узнаем о помещике, помешанном на любви к своей горничной и просидевшем больше двадцати лет на кровати после ее смерти в ранней молодости, оставившем после себя тетрадку с нравоучительным обращением: «Тебе сердца любивших скажут: // „В преданьях сладостных живи!“ // И внукам, правнукам покажут // Сию Грамматику Любви». В этой «грамматике», разбитой на маленькие главы, были собраны «порою очень тонкие сентенции»:
Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. – Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. – Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. – Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки…
Обратимся к творческому наследию Ивана Бунина и посмотрим, удалось ли ему добавить что-то существенное в наивную грамматику любви сумасшедшего помещика и в отличие от Мопассана не разочароваться в половой любви, в которой «огромное счастье» неотделимо от «мучительного одиночества», а найти, по убеждению Льва Толстого, любовь «чистую, духовную, божескую».
Словно сговорившись, в том же пятидесятисемилетнем возрасте и так же в разгаре увлечения молодой женщиной, Бунин, как и Горький, приступает к написанию своего главного, во многом автобиографического романа «Жизнь Арсеньева», где создает живописную картину первой и по-настоящему подлинной любви, в которой с высоты писательского и жизненного опыта раскрывает действие ее вечных непреклонных законов.
Сначала подросток Арсеньев ощущает только первые проблески «самого непонятного из всех человеческих чувств» как «что-то особенно сладостное и томящее». Но в этом особенном чувстве, возникающем от «женских смеющихся губ», «звука женского голоса», «округлости женских плеч», «тонкости женской талии», уже есть и что-то «ужасное», приводящее в оцепенение, так что порой он «не мог вымолвить ни слова». В шестнадцать лет «юношеские чувства», усиленные чудными таинствами венчания старшего брата, воплощаются в «счастливое смущение» в присутствии Анхен, «простенькой», «молоденькой племянницы» новых родственников. И во влюбленном молодом человеке, наделенном «обостренным чувством жизни», запускается мощный генератор воображения, поглощающий «романтические виньетки» поэтов усадебной библиотеки и рождающий «жажду писать самому». После отъезда Анхен ее «живой облик» обратился в поэтическое чувство «с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе».
Вместе с поэтическим переживанием любви Арсеньева наполнял «повышенный душевный строй»: «чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения», а также «сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости». Эта невероятная окрыленность души была готова соорудить новые воздушные замки влюбленности хотя бы из случайного столкновения с пятнадцатилетней худенькой девочкой в сереньком платье, с «трогательно-болезненными губами». Новая любовь на этот раз была «невыносимо прелестна» «белизной ее ножек в зеленой траве» и впитала в себя и «июньские картины» купания в пруду, и «густую зелень тенистых садов», и запахи «отцветающего жасмина и цветущих роз».
Спустя два года Арсеньев встречает свою настоящую любовь. Он, уже публикующийся в «столичных ежемесячниках» начинающий поэт, знакомится в редакции провинциального журнала с тремя молодыми хорошенькими женщинами, и почему-то его выбор падает на Лику, которая всего лишь взглянула на него «дружелюбней и внимательней, заговорила проще и живей». Позже, удивляясь тому, как быстро пролетело тогда время, он определит первый признак «бессмысленно-веселого, похожего на эфирное опьянение» состояния влюбленности как «исчезновение времени».
Варвара Пащенко, прототип Лики, была девушкой «довольно умною и развитою», и в отношениях с нею, подкрепленных ответным, хотя и колеблющемся, как на весах, чувством и нежностью, угадывалась широкая палитра общих мыслей и устремлений. В письме брату Бунин признается, что еще «никогда так разумно и благородно не любил». На его весах любви все, что обнаруживалось на их отрицательной чаше, не принималось всерьез или считалось преодолимым. Он старался донести до нее свои заветные мечты «о будущем, о славе, о счастье творчества», объяснить, что для этого ему нужно сохранять «чистоту и силу души», а ей следует сторониться «пошлой» театральной среды и избавиться от «дурных вкусов и привычек». И хотя она была с ним и «не вполне единомышленник», то «все-таки многое понимала».
В любви к Лике Арсеньев обнаруживает действие ее «тайного закона», требующего, «чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности», – он «горячо любил её простоту, тишину, кротость, беспомощность, слёзы, от которых у неё тотчас же по-детски вспухали губы». Однако действие этого закона сопряжено с коварной необходимостью знать свою меру: порой чувство жалости заслоняет саму любовь. Влюбленные могут не замечать того, что бросается в глаза друзьям и близким. Вовлеченная в перипетии ссор и примирений Ивана с Варварой редакторша «Орловского вестника», где работал Бунин, пишет его старшему брату, что «у ней постепенно пропадает к нему и чувство, и уважение, и доверие», что «Пащенко его не любит, а только жалеет… и никогда он с нею не будет счастлив».
Действительно, у возлюбленной Бунина не было недостатка в основаниях для жалости. Он не окончил последний год гимназии, жил как «бродяга», не имел положения в обществе, его могли забрать в солдаты, ее семья была категорически против брака с женихом «без всяких средств», писательская слава была лишь в мечтах, а все свои еще не окрепшие творческие силы он устремлял на что, чтобы «образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания». Кроме того, в ее любви постоянно присутствовало сомнение, ей казалось, что «она любит не так, как нужно любить… не так, как говорят, как пишут в романах». Расставание на год не внесло ясности в «подлинность» ее любви, и затем она, пожив с ним гражданским браком, оставила его и вышла замуж.
На первый взгляд в истории любви Бунина нет ничего примечательного, разве что удивительная вера в себя, свой литературный талант, твердое стремление к иной, «более идеалистической жизни». При этом его «разумная» любовь довольно эгоистична: он «хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Альтер эго Бунина Арсеньев внушал Лике «одно: живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия, – я тебя люблю и за это буду ещё больше любить». Все это звучит натянуто и высокопарно, если не принимать во внимание глубинные течения бунинской любви.
Первая настоящая любовь Бунина стала чудесным источником сил и энергий сборки его становящейся личности и укрепления веры в осуществимость своих заветных устремлений. Она наполнила жизненными соками две главные особенности его натуры. Одна из них заключалась в принадлежности к древнему знатному роду, которой он гордился, поэтому принимал близко к сердцу наказ предков «блюсти свою кровь: быть достойным во всем своего благородства[8 - Смысл неосквернения родовой породы состоял в том, что «должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым отцом всего сущего».]». Другая была связана с непреклонным стремлением следовать своему внутреннему голосу, собственным «представлениям о чем-нибудь», которые невозможно выразить, и это было одной из причин того, что его возлюбленная «стала чувствовать себя одинокой». Например, он много бродяжничал и, «возвращаясь домой с ночным поездом», фривольно фантазировал, глядя на «спящих навзничь» хохлушек с «раскрытыми губами» и «грудями под сорочками». При этом ему казалось, что «я так люблю ее, что мне все можно, все простительно».
Следует отметить еще одну особенность описываемой Буниным своей главной любви. Он не мыслил жизни без нее, но в то же время недоумевал о возможности их «вечной неразлучности»: «неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее – дети, дом – представлялось мне особенно нестерпимым». Найти какое-нибудь приемлемое решение столь сложного клубка противоречий для сердца, которое все «раскрылось в первый раз в жизни», было возможно разве что в какой-то новой парадигме любовных отношений, например, такой, которую изобрели для себя молодые французские философы Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, познакомившиеся в Сорбонне в 1929 году.
Жан-Поль Сартр (1905?1980)