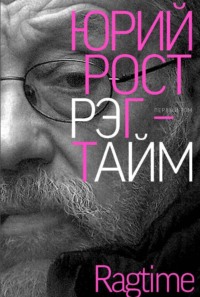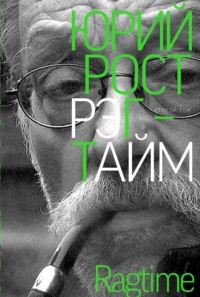Свободные полеты в гамаке
Припоминаю, друг Собакин, как активно пытался я разрушить дистанцию и виртуально «обнять» знаменитого Дьякова, алтайского метеоролога, предсказавшего великие засухи семьдесят второго и семьдесят третьего годов.
«Вы меня исследуете! А я не люблю, когда меня исследуют!!!» – страстно прокричал Анатолий Витальевич в мою оставшуюся жизнь. На все времена.
«В мире много прекрасного. В мире прекрасного много разного. Нам принадлежит не всё, – говорил воздухоплаватель Винсент Шеремет. – Но наши долги, кроме нас, оплатить некому».
Александр Иванович Тихонов чем-то напоминал Ленина, который, по легенде, почерпнутой мной из школьной хрестоматии, выкрикивал, возвращаясь из гимназии: «Из латыни – пять, из истории – пять», – и так буквально по всем предметам.
Только что Саня изображал дискобола на пустом постаменте против правительственного дома на Терещенковской улице (в плавках все-таки), объявив прибывшим милиционерам, что он репетирует композицию для дружественного нашему строю греческого скульптора Мирона, борца против черных полковников. Дочь генерала, из зрителей художественной акции, сраженная совершенной фигурой Тихонова и его знакомством с греческим скульптором-антифашистом, предложила ему дружбу, но он сказал, что сегодня дружить не будет, поскольку отбой у ватерполистов молодежной сборной страны, съехавшихся в Киев для тренировок и размещенных в огромном номере гостиницы «Театральная», был в одиннадцать, однако завтра готов идти с ней сразу к родителям. И пошел.
Генерал был небольшого роста, без фуражки, но в форме. И хотя претендент на руку дочери с уголовным ежиком ему не глянулся, Саша исправно делал «равнение налево, равнение направо», улыбаясь без подобострастия и сверкая железной фиксой, пока отец невесты нервно ходил по большой с тремя (тогда) телевизорами квартире в пассаже на Крещатике.
Вечером Тихонов шел вдоль лежбища молодых ватерполистов и выкрикивал: «Женюсь! Телевизор в каждой комнате, ремонт родного барака в Коломягах, всем друзьям единовременное пособие, никакого хамства под воротами противника». (Правда, похоже на Ленина?)
На следующий день после того, как его удалили из воды за грубость, он сел на бортик бассейна рядом со мной, дожидающимся своей очереди постоять в контрольной игре в воротах, и сказал:
– Слушай! Зачем мне телевизор в каждой комнате? И генерал. Дом в Коломягах и так хорош. Сел на трамвай, и через полчаса на Литейном. Приезжай в Питер! Поступишь в Ленинградский университет на журналистику. Нам в университетский «Буревестник» нужен вратарь. ГВ поможет.
– Правда, приезжай! – подтвердил Игорь Лужковский – один из самых быстрых спринтеров страны, мягкий питерский интеллигент, сын учительницы русской литературы, тоже, на мою счастливую судьбу, сидевший на бортике в ожидании замены. – Можешь летом пожить в комнате у мамы Жени на Мойке, пока она на даче. Будешь соседом Пушкина наискосок.
(И Александра Сергеевича, и хранителя его дома Нину Ивановну Попову они, не зная того, подарили в друзья тогда на все годы жизни.)
Случай – сводник. Случай – шанс. Случай – плод жизни, одно из удачных ее достижений. Поди рассмотри его, определи его роль в твоей судьбе. Потом, спустя годы, понимаешь: не случись – и все пошло бы неведомым путем. Иные друзья, дети, профессия… И ничего, что составляет тебя теперь, не было бы.
Они предложили мне мою жизнь, и, хотя тогда мне не дано было ее предугадать, я кивнул.
– Давай! – сказал Игорь. – Физкультурное образование у тебя есть, получишь еще и гуманитарное. Будешь гармонической личностью, как Тихонов. ГВ поможет.
Не каждый шаг – поступок. Чаще поступком оказывается путь, по которому идешь. Тысячи шагов. Но первый отличается от остальных выбором. И хотя кажущееся отсутствие выбора – проблема твоей судьбы, она – не приговор, а предложение, которое тебе сделала жизнь.
– Не судьба! – ухмыльнулся Собакин, когда двери трамвая закрылись перед нашим носом, хотя он еще долго стоял на остановке, ожидая зеленого света. – Кто-то придал фатальное звучание этой бессмысленной народной мудрости, освобождающей тебя от усилий выбора. Пошли пешком! – сказал Собакин. – Отказ от судьбы – это тоже судьба.
И мы пошли.
А я поехал в Питер. В надежде на себя и на таинственную ГВ.
Но больше я надеялся на Тихонова. Неудивительно. Он обладал, как сказал бы Ленин, которого он мне один раз напомнил, нечеловеческим магнетизмом. Выходец из рабочего барака в пригородных когда-то Коломягах, он окончил Институт физкультуры имени Лесгафта и истфак Ленинградского университета, играл в основном составе ватерпольной «Балтики» в высшей лиге, плавал по мировым океанам старшим помощником на судах Балтийского пароходства, учил плаванию своих профессоров и, наконец, возглавил Школу спортивного мастерства на Каменном острове, которую видный ленинградский самбист вскоре присмотрел для людей, которых знал лучше, чем Тихонова. И Александр Иванович отправился тренировать женскую ватерпольную команду и судить ватерпольные чемпионаты. Судил (ватерполо), рядил, выживал.
Саня жил небогато, но бойко. Каждое утро, хоть в дождь, хоть в снег, он бегал по своему району, который в городе звали ГДР («Гражданка Дальше Ручья»), чтобы быть в форме, если жизнь попадется ему под горячую руку. Но она часто оказывалась быстрее и неожиданнее в своих атаках, хотя не бегала. А шла. Неотвратимо.
Всё, что я сказал сейчас, – это только остеология. (В институте мы оба учили анатомию.) Перечисление костей скелета. А ведь он был одет живыми мышцами, опутан тонкими нервами и накрыт чувствительной кожей.
Тихонов героем не был. Героем человека назначают чаще в результате отважного поступка, желательным условием которого для окружающих является его смерть. Он уже не составит никому конкуренцию и не вызовет зависть. Мертвым не завидуют. А Саня долгое время был жив.
Подвиг – это что, Собакин? Жертвование или гибель во время исполнения долга или проявления беспримерной смелости поступка, замеченная начальством для примера другим смертям, во имя успеха этого же начальства.
Посмотрите на броню из десятков орденов наших бравых полководцев. Я о мере вкуса носителей этих иконостасов не говорю, но мундиры маршалов напоминают мне мемориальные кладбища солдат, своими жизнями оплативших эти знаки отличия от других…
А ватерполист Александр Иванович Тихонов не погубил ни одной жизни, а одну спас точно – мою. Точнее, предложил мне. И ее живу.
«ГВ поможет». Наверное, так оно и было, но я готовился к экзаменам так тщательно, что в один присест поступил на факультет журналистики, который долго и счастливо был отделением филологического факультета, что дало возможность слушать лекции звезд истории русской литературы: Бялого, Беркова, Макагоненко – и даже на дому сдавать экзамен великому Проппу, и вдобавок сам успешно прошел на вечернее английское отделение филфака.
ГВ (на самом деле ЛВ – Лариса Владимировна Дубравицкая) была старшим преподавателем или еще кем-то более важным на физкультурной кафедре и отвечала за водные виды университетского спорта. «Галина» был ее позывной, когда она еще девчонкой работала разведчицей-радисткой в тылу врага. Этот позывной она принесла в мирную жизнь, которая по-женски уже как-то и не успела сложиться. Ни она, ни ее сестра, балерина Милица, замужем не бывали. Они жили втроем с отцом – профессором Ленинградской духовной академии.
Дом был полон университетских спортсменов, к которым не столько по возрасту, сколько по опыту ГВ относилась как старшая сестра. А Тихонова она любила. Будучи старше и, по-видимому, пропустив из-за войны и ранения первую любовь, она решила, что Александр Иванович будет последней. Она-то решила…
Был ли ответ, я не знаю. Разница лет в десять в этом возрасте велика, к тому же в Тихонове была заложена программа саморазрушения, которая в силу его внешней беспечной жовиальности, врожденного артистизма и стремления к игре угадывалась не сразу. Но окружающим нередко приходилось его терпеть.
Все-таки тянет меня исследовать!
– Ты читай слова, – сказал Собакин, когда я спросил о его отношениях с Анной, – а не смотри на мой опыт.
– Но ты ничего не написал, Собакин!
– Читай по губам. Губы на периферии лиц, и за ними никто не следит. Контролируют выражение глаз, которые, как красиво придумал Толстой, якобы «зеркало души». К тому же иногда они прикрыты веками, как в метро. А по губам ты прочтешь больше. Их забывают контролировать сознанием.
– Ну и почему же вы расстались с Анной в этот раз?
– Я напишу словами, чтоб ты не мучился с губами.
Он достал ручку LAMY, которую ему привез с берлинского блошиного рынка сердечный друг и хирург профессор Алекси, и написал: «Она каждый день насиловала меня радостью».
Тихонов был невыносимо обаятелен. Или обаятельно невыносим. Он позволял себе в общении веселую нагловатую правду. Другому бы не сошло.
Здоровые ватерполисты, и без того невероятно окрепшие в своей неласковой игре, жарким летним днем в Солнечном, под Питером, на берегу Финского залива играли в гладиаторское пляжное регби. А неподалеку была дача члена ЦК нашей любимой партии, первого секретаря Ленинградского обкома Василия Сергеевича Толстикова, свирепого поборника коммунистических идеалов (особенно в культуре), того самого, который, став послом СССР в Китае, принял, как говорили горожане, немецкого посла за испанского и имел с ним продолжительную беседу.
Указом еще товарища Кирова ничья дача не могла выходить к воде, и, чтобы окунуться в Финском заливе, надо было преодолеть метров пятьдесят внешнего пространства.
Во время очередной «схватки» Саня увидел, как партийный деятель в трусах, сопровождаемый одним телохранителем, идет к воде. Купаться. Забыв свои игровые обязанности и зажав кожаную дыню под мышкой, потный и вывалявшийся в песке Тихонов, легко оттерев охранника, подошел к Толстикову и, положив грязную лапу на белый, хорошо выраженный животик хозяина города, сказал:
– Что-то ты поправляться стал.
Мы замерли, ожидая крупных неприятностей, однако Василий Сергеевич, с опаской посмотрев снизу на Александра Ивановича, сказал, словно оправдываясь:
– Работа сидячая.
– Приходи ко мне в бассейн. Уберем лишний вес.
– Спасибо! – сказал партиец в трусах.
Тихонов был правдив и большей частью весел, чем опровергал устойчивое мнение, что люди, говорящие правду, малоприятны, часто желчны, порой скрывают ревность к жизнерадостным, безответственным врунам. А между тем способность, как гениально сказал Гоголь, прилгнуть требует ума, фантазии, памяти, такта и, что покажется странным, правдоподобия.
Всё чрезвычайно серьезное – комично. В Тихонове было нечто присущее таким высоким клоунам, как Никулин.
В техникум, где Александр Иванович преподавал одно время историю, я заглянул во время контрольной работы. Серьезный Тихонов в костюме и галстуке сидел в аудитории за последним столом и, словно пастух, наблюдал за стадом.
– Садись! – сказал он мне и обратился к студентам: – Так, товарищи, перерыв. Сейчас известный (он был склонен к преувеличениям) журналист, мой друг, расскажет вам, как делать стенгазету. А вы, Суслопаров, пишите заявление.
– Какая стенгазета? Какое заявление?
– Ты можешь ограничиться приветствием к молодой технической интеллигенции. А заявление такое: «Я, Суслопаров Владимир Ильич, в случае рецидива списывания контрольной работы разрешаю А. И. Тихонову сделать со мной что угодно».
– И что ты сделаешь?
Он снял пиджак и напряг бицепс. Студенты замерли, наблюдая сцену.
– Ничего! – сказал Саша и засмеялся. – Но им будет что вспомнить из своей тоскливой жизни.
Он был из тех людей, которые, если их толкнуть под столом, мол, думай, что говоришь, немедленно и весело спрашивают: «Что за тайные знаки? Разве я не прав?»
«О! – говорил он, когда я к нему приехал на Гражданку, по моей версии, первый раз с дамой. – Марлен Дитрих тут была, Мэрилин Монро тоже была (Тихонова отличала чрезвычайная щедрость, в том числе и в оценках), теперь Софи Лорен».
И Софи Лорен полюбила Тихонова навсегда. На него мало кто обижался. В нем не было корысти зла. Он никого не опровергал и редко спорил. Разве с ватерпольными судьями, которые наказывали его за излишний азарт под чужими воротами.
Было не то чтобы трудно, а неохота ему противостоять. Наблюдать интереснее.
У меня были проблемы с политэкономией социализма. Не давалась она мне. А доцент Алексеев занимался плаванием в оздоровительной группе преподавателей ЛГУ, которой руководил Александр Иванович. Днем они его учили на истфаке, вечером – он их. «Ну, дистрофики, – весело командовал Тихонов, – построились и в воду!»
Доцент стоял под душем в одной шапочке, когда мощная фигура заслонила выход из кабинки.
– Мой друг Юрий Михайлович знает предмет на пять.
– Он не ходил на занятия.
Тихонов потянулся к крану и прикрутил горячую воду.
– Я подписал конвенцию о запрещении пыток преподавателей политэкономии социализма, но Гаагский суд меня оправдает.
– На четыре! – не сдавался доцент.
– Зачетку в операционную! – повернулся ко мне Саня.
После бассейна они с доцентом обмывали мою стипендию в баре пивоваренного завода имени Стеньки Разина.
Александр Иванович Тихонов не создал учения, не воспитал учеников (ну, может, кого-то из женских ватерполистов). Он просто вынянчил место в моей душе и изменил жизнь (к лучшему, уверен) одного человека. Он помог сделать шаг. И забыл об этом.
Зачем я написал этот текст? Из чувства вины, господа!
В чем же моя вина перед этим человеком, кроме
привязанности к нему? Не в том, что я есть.
(Читайте текст, а не исследуйте опыт.)
А в том, что его нет. Хотя Тихонов и другие
мои друзья мне не принадлежали.
Вот и Собакин ворчит: «Необретенные потери мучают
нас временами. Не мешайте процессу.
Отношения не завершены. Ушедших надо
вспоминать, а живых помнить».
Ишь, какой умный.
Оценка. Кому верить
Представление персонажа, участника действия (автора)С детства я жду одобрения своих действий. Словами. Слово для меня важнее поведения. Да ведь слово – поведение и есть.
Потребность в оценке себя пришла гораздо позже, чем я оценил слово.
Во дворе киевского Театра русской драмы по Пушкинской улице, номер семнадцать, мы – актерские дети – играли у огромной противопожарной бочки высотой метра два. Когда после войны стали показывать трофейные ленты, киевляне устремились на фильм «Девушка моей мечты», где звезда кино и мюзик-холла Марика Рёкк купалась в бочке совершенно голой, что можно было понять, поскольку она выныривала из воды без лифчика.
Мы пытались представить себе эту красавицу, в которую влюбился бесноватый фюрер. И у нас пока не получалось. Наверное, наша бочка была слишком велика. А вот лифчик я представил хорошо. Мама на Бессарабском рынке у подпольной швеи Муси покупала себе розовые атласные бюстгальтеры, размерами напоминавшие летние шапочки для близнецов.
В тот момент, когда я уже почти совместил большой послевоенный розовый лифчик с бельевыми пуговицами на спине и довоенную красавицу Марику Рёкк, кто-то бросил в меня жужелицей. (Так назывались ноздреватые комки шлака, которые выгребали из топок.)
Ссадина была пустяковая, но злой мальчик из нашей двенадцатикомнатной коммуналки Валька Костенко по прозвищу Крыса подошел ко мне и сказал: «Теперь ты, дурак, умрешь!»
«Дурак» – это была не оценка, но отношение ко мне, о котором я знал, и это не задевало. То, что умру, мне тоже было известно, и печалило лишь то, что другая жизнь продолжится и игры во дворе будут проходить без меня. Это будущее неучастие тем не менее скоро забывалось, но конкретное «Ты умрешь!» страшно, до слез расстроило меня. Я ходил по двору растерянный и пораженный жестоким прогнозом, прекрасно зная, что от комка шлака умереть невозможно. Но слово-то было.
Забыв о «Девушке моей мечты», я искал того, кто снимет заклятие. Этим ангелом оказался мой дворовый друг, сын заведующего постановочной частью Русской драмы Боря Ратимов. (Отец его, страстный поклонник театра, образовал свою фамилию от имен двух своих кумиров сцены – Ратова и Тимме, хотя родная фамилия, скажем, Шульженко, была нисколько не хуже.)
«Ты – не умрешь!» – безответственно сказал Боря, и я мгновенно успокоился.
С той поры, даже не веря словам, я остро реагирую на них. Не читаю отзывов и мнений, хоть бы они были комфортными, не участвую в фейсбуках и стараюсь не вслушиваться в комплименты, не только затем, что знаю их достоинство, но и потому, что сам грешу из расположения к персонажу. Впрочем, часто (уместнее сказать – порой) я говорю правду. Ну, так: сначала – правду, а потом то, что, в моем представлении, хотел бы и вытерпел собеседник. То есть чужое поведение, равно как увиденное или прочитанное, пытаюсь объяснить (но не оправдать, не оправдать!), находясь в состоянии, которое обещает комфорт души не столько визави, сколько мне самому.
«Правду следует говорить, только когда нет выхода», – учил философ и воздухоплаватель Винсент Шеремет.
К профессиональным премиям теперь (когда, впрочем, кое-что получено – не кокетничай, дружок!) большей частью безразличен, хотя их наличие освобождает от тщеславия и заставляет думать, сколько знаний недополучено и сколько действий (слов, образов) не найдено или упущено от лени.
Признание. Это – общая сумма заблуждений, в которую ты вводишь себя, порой и неосознанно, и которую читатель держит в кошельке большей частью тайно, и только когда приходит время рассчитываться, он может достать оттуда купюру того достоинства, которое тебе определил. Впрочем, эти купюры отражают не тебя (не зеркало ведь), а отношение к тебе. К реальному положению твоему в пространстве жизни они отношения не имеют.
Что же важно? Не стану говорить «ничего», тем обнаружив фальшь и позерство.
Важна оценка.
Сколько оценок, которым вы верите и которые дороги, можно вспомнить за жизнь? Не много.
Из ранних лет я помню одну, хотя школьный дневник был испещрен цифрами от одного до пяти с комментариями. Но и та, о которой теперь расскажу, была – фальшивой.
В школе номер пятьдесят три по улице Ленина, бывшей Фундуклеевской, в Киеве, которая после войны напоминала бурсу Помяловского, кто нас только не учил, чему и чем. Завуч Петр Иванович Барыло вразумлял трофейным (хотя сам не воевал, а был политработником в тылу) карандашом «Кохинор», дивно пахнущим сандалом, на тупой конец которого была надета большая канцелярская стирательная резинка. Он шел по узкому коридору и всех, кто не успевал увернуться (из младших классов, поскольку старшеклассников он не без основания побаивался), бил этим резиновым молотком по голове со словами: «Шморкач! Тебе двенадцать лет, мне сорок лет!»
Аргумент мы полагали достаточным для Петра Ивановича Барыло. Тем более что у многих из нас родственники были репрессированы по мотивам еще менее убедительным. Однако это не было оценкой, а сухой констатацией факта.
Наш учитель физики Иван Терентьевич Харченко появился в рассказе об оценке не случайно. Это был человек обидчивый, необразованный, с присущим времени представлением о морали.
Стоило кому-нибудь подсказать товарищу, мучающемуся у доски, как он поворачивался к классу и вопрошал: «Кто это сделал?»
Не получив ответа, он открывал журнал и говорил: «Ставлю двойки всему ряду. По подозрению».
К коллективной ответственности мы были приучены с ранних лет. Подозрения или навет были главными уликами против обвиняемого. В каждой семье это знали хорошо, хотя и берегли детей от опасной информации.
Слова физика «Сколько можно долбить эту дину?» вызывали радостное оживление у мальчиков, треть из которых имели приводы в милицию.
– Не Дину, а Нору, – поправлял его Миша Черкасский, рыжий урка с косой челкой и ласковым прищуром.
– Какую еще Нору? Мы проходим единицу силы.
– А я думал, вы про нашу немку, Нору Александровну.
– Пошел вон из класса! Я сейчас упаду… и мои дети – сироты!
На самом деле Иван Терентьевич здоровья был крепкого. Когда я пришел на практику из института физкультуры, наш любимый физрук Владимир Федорович Качанов, порой в комнатке под лестницей разливая по маленькой учителям, осуществлял голосом дистанционное управление учебным процессом: «На первый-второй рассчитайсь. Первые – десять кругов по залу. Вторые – пять. Потом наоборот. Разбились на пары, бросаем мячи…» Он часто спасал меня от старшеклассниц, которые обожали играть в баскетбол, бегая по залу в маечках и свободных сатиновых трусах с резинками. Они висли гроздьями под щитом на крепких студентах-практикантах, изредка доставая из-за пояса расчески, чтобы привести себя в порядок перед новой атакой на кольцо.
«Бегом на Прорезную, – говорил он мне. – Бутылка “Столичной”, две французские булки и полкило одесской колбасы».
Я брал деньги и бежал. Физрук сказал «бегом», значит, бегом. Однажды, вернувшись, я увидел в комнатке нашего физика Харченко, угрожавшего нам когда-то потенциальным сиротством своих детей. Узнав меня, он смутился немного, но, услышав, что я на педагогической практике, сказал: «Ну, теперь-то мы коллеги. Можно». И выпивал исправно.
Именно Иван Терентьевич был близок к тому, чтобы дать возвышающую меня среди современников, то есть не вполне справедливую, но все же оценку.
Контрольные работы тогда писали на вырванных из середины тетради двух листках. Решив задачи, ты должен был в конце урока сдать их учителю для проверки, предварительно подписав. Я никогда не подписывал, но если отметка за работу случалась пристойной, сознавался в авторстве. А если нет, то нет, хотя потребность быть оцененным порой чувствовал, особенно если знал, что работу сделал хорошо.
В тот день я хорошо сделал свое дело, списав всё у соседки по парте – отличницы Милы Ефремовой, чистоплотной дочери директора гастронома.
Мила была «девушкой» известного на Бессарабском рынке вора-карманника Вовы Орлова и хотела ему нравиться, а была склонна к полноте. Поэтому на большой перемене она скармливала мне бутерброды (иногда с паюсной икрой), которыми ее снабжали дома. Жила она в уцелевшем после войны домике во дворе на углу Крещатика и Бульвара за одноэтажным хлебным магазином, где продавщицей работала худая скуластая женщина по кличке Анаконда с вызывающе красной, даже для послевоенного времени, помадой.
Горячей воды у Милы в квартире не было, и она, будучи чистоплотной барышней, ходила мыться в Караваевские бани, известные еще и тем, что там, в лучшей, говорили, киевской парной, сгоняли вес борцы, боксеры и штангисты. На самом деле в банные вечера она гуляла с Орловым, а перед тем, как вернуться домой, заходила в соседний двор и под струей из колонки летом и зимой мыла волосы, чтобы вернуться домой с мокрой и чистой головой. Вместо менингита, который обязана была получить крепкая на грудь и ногу Мила Ефремова, она закалилась настолько, что никогда не болела и училась исключительно на пятерки. Соседство по парте с этой покладистой девушкой я считал большой удачей, однако, списывая у нее контрольную, счел разумным сделать для правдоподобия пару незначительных ошибок. В конце урока, о котором рассказываю, я отдал неподписанные листки Ивану Терентьевичу и стал ждать триумфа.
Высокая оценка забрезжила в моей беззаботной жизни. Однако учитель физики, получив анонимную контрольную, атрибутировал ее неточно. Почеркав толстым красным карандашом в тех местах, где ошибок как раз не было, он размашисто написал на последней странице: «3–. Плохо дело, Махновецкий».
Красивый мальчик Стасик Махновецкий был ненавистен Харченко из-за своей мамы – красавицы Зои, жены заместителя директора театра. Зоя пришла однажды в школу по вызову физика с красными от помады ТЭЖЭ, почти как у Анаконды, губами, в чернобурке, и роскошный ее вид породил в физике чувство классовой ненависти. А когда она достала из портсигара короткую сигарету «Кэмел» без фильтра из американских подарков и, вставив ее в длинный янтарный мундштук, закурила, Иван Терентьевич с робкой ненавистью пробормотал: «Ну, понятно…» – и, оскорбленный увиденным, вышел.
Ложная идентификация учителем работы лишала меня возможности получить не отметку, чего было достаточно в дневнике, но оценку.
– Это моя контрольная работа! – сказал я гордо, найдя на столе два листка после того, как все ученики свои контрольные разобрали.
– Твоя? Ну, дай сюда!
Он перевернул контрольную и на последней странице, зачеркнув фамилию «Махновецкий» и тройку, но оставив минус, написал «4–». И хотя для убедительности я обвел четверку чернилами, праздник оценки был смят. Да, по чести, я его и не заслужил. Это было похоже на оценку, но оценки не было. Потому что она может быть только заслуженной. Это вам не орден к юбилею.
Представление персонажа, героя действияДмитрий Урнов (следите за перечислением – один из крупнейших отечественных исследователей Шекспира, автор книг о Джойсе, Кэрролле, Дефо, блестящий писатель, конник, кучер тройки (!) – это почище пилота «Формулы‐1») – неподражаемый рассказчик. Однажды среди многих историй, которые он поведал в своих блестящих книгах, рассказал мне о Викторе Эдуардовиче Ратомском – выдающемся наезднике Московского ипподрома.