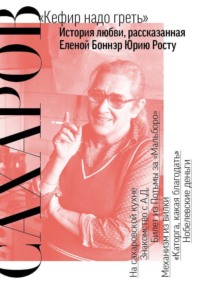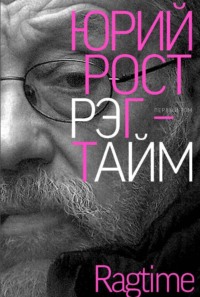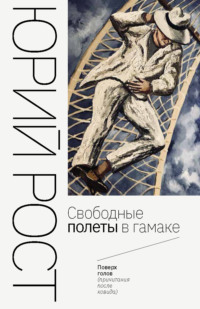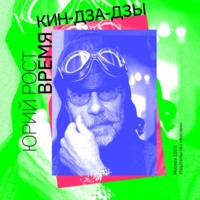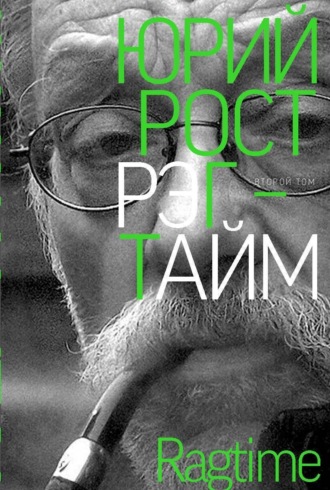
Рэгтайм. Том 2
Под окнами стояли мои друзья Алла и Толя Корчагины. Вернее, стояли бы, если все это было бы правдой, я уверен.
Они постояли бы и тактично ушли, а я не посмел себя обнаружить и, когда затихли голоса, выстроенные в ритм пушкинских стихов, зажег свечи в шандале на столе. Колесо тени от абажура медленно покатилось по потолку. Ночь пошла на убыль.
Я сидел у стола и думал: надо написать о любви. Как Нина Ивановна любит его, как он заполнил всю ее жизнь, как он научил ее чувствовать («До встречи с ним я была синим чулком»), о том, что у нее был муж-писатель, что ей постоянно надо было переключаться… И не забыть бы, кстати, что Наталья Николаевна пыталась переписывать начисто рукописи Пушкина, да не нашла в этом радости.
Потом я вспомнил, что какой-то негодяй, приехав из-за рубежа в отпуск на родину, пытался украсть гравюру на кости из музея и что его друзья оказались влиятельнее, чем друзья Пушкина (увы), и вместо наказания он вновь уехал представлять нашу торговлю – в Италию, кажется…
Я думал о том, что друзья Александра Сергеевича все же сильны и благодарны, что они обязательно отремонтируют ему дом, замостят двор и купят лошадей в конюшню. Почему он не должен иметь своего выезда?..
И откуда эта музыка? Гаммы? Вальсы?.. Клавиши прямострунного пианино нажимаются сами, молоточки ударяют куда надо и извлекают точный, щемящий звук… Были такие музыкальные автоматы. Но такого нет в квартире, только в планах (после ремонта)… Сами клавиши нажимаются. Впрочем, и Пушкина тоже нет. Но клавиши нашей души нажимаются сами…
Я очнулся от звука, который мог разбудить этот дом и тогда. Дворник под окнами соскребал с тротуара снег. Который теперь час, день, век? Это и был итог ночи – объединение времени методом потери его. (Или в нем?)
Не знаю, кто открыл бы квартиру и выпустил меня на улицу, может быть, я вышел бы сам, слившись с группой посетителей, но часов в десять или одиннадцать я ступил бы на набережную. Там был бы день!
Ночью шел снег, а теперь – солнце, сосульки на решетках мостов, вода в следах… Я пошел бы по Мойке пешком в Коломну, во мне звучал бы неясный аккорд прямострунного пианино, вокруг было бы стереоскопически ясно, и предметы, люди, поступки после нереальной ночи были бы полны смысла и добра.
У Крюкова канала я сообразил бы, что свечи в чернильном приборе с арапчонком догорали и надо купить новые. Я купил бы их в Никольском соборе по полтора рубля за штуку и пошел бы к выходу. В сумерках собора я увидел бы огромного черного кота, который лежал на батарее, свесив лапу в белой перчатке до локтя (видимо, вернувшись с бала, не успел снять). Шагнув из полутьмы в свет, я едва успел поймать глазом улетающую в небо Никольскую колокольню великого зодчего Саввы Чевакинского. В ясном небе ее было видно долго…
А все-таки жаль, что Пушкина не было дома! Потом ненадолго усомнился, зачем ему моя компания, но тут же нагло и весело подумал: «А вдруг!»
Мы подружились с Поповой на долгие годы и дружим по сей день, хотя в Фонтанном доме, где она нынче возглавляет музей Ахматовой, бываю не часто. Я полюбил Нину Ивановну вовсе не для того, чтобы наилучшим образом быть представленным Александру Сергеевичу… Скорее, я потянулся к живому Пушкину, чтобы время от времени иметь счастье слушать ее рассказы об отсутствующем друге.
А тогда я вернулся бы на Мойку днем и увидел Нину Ивановну. Она почувствовала бы, что было прожито за день и ночь, и спросила бы:
– Ну что, узнали ли вы больше о Пушкине?
– Нет, – ответил бы я. – Но благодаря вам я понял, что без него скучно жить.
Рыжие
Даже на черно-белой фотографии видно, что эти четверо братьев совершенно рыжие.
Такая удача. Клички и любовно-ироническое отношение им обеспечены на всю жизнь, и теперь можно не думать о системе поведения. Они обречены выпадать из общего ряда.
Рыжий – не столько обилие веснушек и пожар на голове, сколько мировоззрение и образ жизни: лукавая простодушность, скрывающая терпящий насмешки ум, снисходительность к глупости, театральность и естественность. Блистательный питерский клоун Леонид Лейкин пересказал мне слова итальянского коверного: «В хорошем “рыжем” живут два человека. Первый постоянно думает о втором, а второй не подозревает о существовании первого».
Хитрость рыжего не приносит выгоды самому герою, она видима всеми и безопасна для окружающих. Быстрое прощение – свидетельство отсутствия злопамятства, но не отсутствия боли. Обид рыжий не копит, постоянно попадает в якобы глупые ситуации, из которых по ленивой изобретательности выходит с честью, не победив никого.
Этот гороскоп, как, впрочем, любой, совершенно неточен, поскольку касается лишь талантливых «рыжих», то есть рыжих чистого жанра. Белая кожа и огненный цвет волос не дают права на ношение этого высокого звания, хотя по первости могут ввести в заблуждение. Распахиваешь объятия: «Здравствуй, брат!» – а из-под белесых ресниц холодный, самоуверенный взгляд, полный невыносимого достоинства. Нет, милейший, какой же ты рыжий – ты совершенно черный. Ты жаждешь исключительности, а истинно рыжий такой же, как все, только другой.
Эти четверо вырастут и станут разными, но, может быть, кому-нибудь из них повезет, как однажды повезло мне, когда серьезный человек, вернувшись из заграничной командировки, сообщил бывшему моему главному редактору:
– Все вели себя солидно, а ваш – как рыжий клоун.
Я храню эту оценку как самую дорогую, хотя и несколько завышенную.
Теперь к героям фотографии…
Вперед, ребята!
Вас ждут великие дела. Но… не забывайте о жанре. Он рождает братство.
С днем рождения. Вообще.
Маня
Маня покосила траву, вошла в избу и спросила:
– Самовар кипел?
– Кипел, баба Маня.
– В Москве как с дровами?
– Нет дров в Москве. Там паровое отопление и газ.
– А самовар как ставить? Одними газетами не согреешь. Или вы чай там не пьете?
– Пьем. Чайник поставишь на плиту, или электрический включить можно.
– И правительство так?
– Наверное.
– По-новому, значит. А детей как делаете? Тоже чего-нибудь включаете или как раньше?
– Как раньше.
– Значит, наука еще не дошла, чтоб без мужика. Слабая пока еще наука, слава тебе господи. У тебя парницёк или девка?
– Парень, хотя я девочку хотел.
– Так ведь не руками складёшь. – Маня поставила на чистенькую деревянную столешницу три чашки с блюдцами и выглянула на дорогу. – Вот и мой партиец пиздяной идет. Сейчас познакомишься. Он видишь что удумал: в коммунисты записался, чтобы зубы новые вставить. Им в районе без очереди зубы справляют. А я-то осталась беспартийная… – Она залилась безззубым смехом. – Иван, – закричала баба в окно, вытирая слезы, – у нас гость. Журналист Юрка из Москвы… Сейчас я ему подам! – Она подмигнула мне, метнулась к печке за занавеску и оттуда в сени.
Через минуту, сверкая ослепительными зубами и повязанный платком на манер пирата, вошел муж бабы Мани Иван Павлович.
– Ну, – сказал он медленно и членораздельно, – как там благосостояние? Крепчает?
– Крепчает! – Я во весь рот улыбнулся, пожимая ему руку.
Павлович посмотрел на меня пристально и спросил:
– Партиец?
– Нет, свои.
– Ну, значит, мы познакомились… Тогда я пойду сниму зубы, а то жмут, как тесные сапоги.
Он скрылся за занавеской и скоро появился счастливый:
– По такому поводу…
Я полез в рюкзак. Маня, метнув лукавый взгляд, поставила на стол соленые грузди и картошку.
– Говорила ему: не ходи, обманут. Теперь гляди – без зубов, а все равно в партии.
Павлович махнул рукой и стал разливать.
Баобаб
Что остается от детства? Длинный день, долгое лето, бесконечная жизнь впереди и краткая внезапная мысль, рождающая оторопь и обиду: неужели кто-то будет гонять в футбол под окном, строить шалаш из декораций в театральном дворе, лежать на нагретом солнцем песке в невидимом стоячем облаке запахов полыни и скошенной травы, а меня не будет?
О, как мы любим лицемеритьИ забываем без трудаТо, что мы в детстве ближе к смерти,Чем в наши зрелые года.Ты, маленький и резвый, бежишь мимо ползущего времени и все успеваешь. Как хорошо, как весело любое занятие. Как радостно всё учит тебя. Хоть молотьба овса, хоть школа. Как занимательны друзья, как много обретений, узнаваний, открытий. Разочарования легки и выносимы.
Влюбленности – до холода в животе. Впрочем, это уже юность, или молодость, и время разгоняется помаленьку.
Взрослеем. Движения твои затормаживаются. Начинается период усилий и потерь.
Еще обиду тянет с блюдцаНевыспавшееся дитя,А мне уж не на кого дутьсяИ я один на всех путях.Ну, не совсем один. Просто поиск ленив, а время споро, и уносит тех, кто привязан не крепко. Перебери узы. Еще многое есть, хотя глаз обрел несвойственное – видеть не то, что снаружи, а то, что внутри. Откуда во мне Мадагаскар? И это одинокое дерево? Ах ты, милый! Это знак? Нет-нет, это баобаб. Какой толстый гладкий ствол, какая веселая панковская прическа на макушке, сколько влаги он накопил. (Вода – жизнь!)
То-то.
Но не хочу уснуть, как рыба,В глубоком обмороке вод,И дорог мне свободный выборМоих страданий и забот.Осип Эмильевич понимал.
Важно, что это не бывает, а есть.
Утраченные негативы похорон Высоцкого
Фотопленка – таинственная вещь. Она живет своей жизнью. Зачинаясь в темной утробе фотоаппарата, негативы ждут рождения. Недоношенные при проявке – они прозрачны и слабы, переношенные – контрастны, жестки и лишены подробностей. Нормально рожденный негатив – весел и здоров, какое бы печальное событие ни отражал. В нем все звенит от гордости, что запомнил бывшее с бриллиантовой чистотой и честностью. Его можно сразу напечатать и тем потешить глаз напоминанием недавно виденной картины, можно отложить на потом, чтобы никогда об этой картине не вспоминать, а можно спустя годы сунуть руку в ворох времени, чтобы вытащить из него перфорированную ленту чужой и своей судьбы и ужаснуться, как давно ты живешь и как скоро.
Негативы прощания страны с Владимиром Высоцким были пристойного качества. В основном они отражали то, что происходило в Театре на Таганке, вокруг него, и мое собственное растерянное потрясение. Иногда я забывал менять экспозицию, отчего кадр то засвечивался, то, наоборот, уходил в траурную черноту. Но в основном изображения были отчетливыми и ясными, как видимая часть жизни тех, кому они были посвящены.
Теперь их нет. Никого.
Я встречал негативы Высоцкого, перебирая другие жизни, а к случаю не нашел. Так бывает. Список потерь растет, наводя на мысль о том, что кто-то дает тебе знак: память о жизни своей, о друзьях своих, о дорогих тебе людях и встречах, о высоких и трагических моментах, свидетелем которых ты был, о любви своей, об утратах своих – в себе же и храни. Не освобождайся от прожитого одним лишь коллекционированием фотокарточек или собиранием архива, тем более что никому, кроме тебя, в нем не разобраться, да и не нужен он, кроме тебя, никому.
Почти.
Впрочем, все рассуждения – может быть, лишь оправдание бессистемной жизни негативов, в точности копирующей твою собственную.
Хотите перечень фотографических утрат?
Первая (всеобщая) легальная съемка Андрея Дмитриевича Сахарова в конце февраля 1970 года. Помню не только кабинет в «Комсомольской правде», где тогда работал, но ящик и конверт, в котором лежали негативы. После высылки Сахарова в Горький мой друг Ярослав Голованов, знаменитый к тому времени журналист, сказал:
– Ты бы спрятал куда-нибудь сахаровские негативы. Потом не найдешь и будешь жалеть.
Вот я и жалею. Хотя спрятал. Мы открыли ящик и не нашли в нем конверта. Он исчез. Голованов мгновенно (хоть и не навсегда) потерял ко мне интерес и вышел из комнаты, что означало крайнюю степень осуждения.
Сохранилась одна фотография у меня, другую мы с Еленой Георгиевной Боннэр нашли после смерти в личных бумагах Андрея Дмитриевича. Довольно потрепанную. Оказалось, что именно эту карточку Сахаров, ухаживая за Боннэр, подарил ей, чтобы была.
Вторая – мистический побег всей многолетней съемки квартиры Пушкина. И среди них неповторимые (впрочем, каждый кадр неповторим) негативы, сделанные во время моего одинокого пребывания мартовской ночью на Мойке, 12. Может, исчезли они потому, что, сговорившись о ночном визите с хранителями, я не спросил согласия хозяина. Но ведь я не заходил ни в кабинет, ни в детскую, коротая ночь при свечах в гостиной. Отпечатки, впрочем, остались (видимо, за проявленный такт) и даже послужили основой для выставки «Пушкина нет дома…». А негативов нет.
Третья – отснятые пленки трагедии на Мюнхенской Олимпиаде напротив дома, захваченного арабскими террористами, за невозможностью напечатать в газете советского периода были вовсе скручены в рулон, который по истечении времени найти не удалось.
Смерть Высоцкого тоже произошла во время Олимпийских игр. В Москве. Эти игры не были полноценными из-за бойкота по поводу вторжения СССР в Афганистан. Помпезность и показуха парализовали город. Надо было показать торжество и возможности строя, а тут вдруг умер Высоцкий. Народная трагедия. Не было ни одного дома, где не звучали бы его песни. Он был любим и понятен. Беззащитный защитник. Актер, певец, поэт, любовник. Друг всем, страдающий от одиночества и от отсутствия его.
Кадр первый. Он тянется по Радищевской улице от ее устья, от Котельников, до театра и состоит из тихой, бесконечной и организованной очереди по-летнему одетых людей. Они молчат, и лица их печальны. Цветы они будут складывать на сцене у гроба, молча выходить из зала и не уходить, а накапливаться на Таганской площади и по обеим сторонам Садового кольца, чтобы проводить его в последний путь.
Ближе к театру скорбную широкую очередь обожмут ограждением, у которого с неоправданной частотой стоят воткнутые в мягкий асфальт милиционеры. У церкви – штабной автобус с рациями и громкоговорителями, наполненный офицерами и самим начальником ГУВД генералом Трушиным.
День ясный, солнечный. Легкие облака плывут по небу. Не помню куда.
Кадр второй. Сумрачный. На сцене – гора цветов, на заднике – портрет Владимира Семеновича. У гроба – артисты театра, друзья театра, родные Высоцкого, сыновья, Любимов, Влади… Плачущий Всеволод Абдулов – близкий, нет не так, просто друг. Он прижался лбом к сложенным на груди рукам и не может отойти.
Люди идут, глядя на Высоцкого, не отвлекаясь на знакомые по фильмам и спектаклям лица. Эти лица – мертвая декорация, не имеющая отношения к их личному горю.
Они идут – молодые, старые, женщины, мужчины. Разные, равно любящие этого невысокого, мощного, потерянного ими человека. Они уходят в солнечный свет продолжать любить его голос. Дальше они безгласны. Им кажется, что больше некого хоронить, хотя это не так!
Они еще придут во Дворец молодежи прощаться с Сахаровым и в Вахтанговский театр на последнее свидание с Булатом. Они еще погорюют о себе, покинутых. Они еще не знают, что наступят времена, когда будет все можно. Правда, опять не им.
Кадр третий. Улица, запруженная людьми настолько, что гроб поднимают над головами и поэтому возникает ощущение, что его передают из рук в руки. И он плывет над молчаливой толпой, потому что никто не хочет расступаться. Или не может.
Похороны Высоцкого стали демонстрацией любви. Такая демонстрация опасна для власти. Потому что объединяет людей по личной неконтролируемой привязанности. Вместо предложенного символа – выбранный. Но угрозы режиму в ней нет. Угрозу представляет бесстрашная ненависть униженных. Наш же люд в большинстве безразличен к своей судьбе. У него короткая страсть. Или кроткая. На этой же карточке видна деловая суета. Организационная. Мало причастные к жизни усопшего персонажи, чрезмерно озабоченные изображением близости к кумиру. Излишне подробно все рассаживаются по машинам. В советском траурном автобусе ПАЗ – самые близкие.
Юрий Петрович Любимов через открытое стекло жестами дает указание. Вереница пробирается сквозь толпу…
Кадр четвертый. Голое, без машин, Садовое кольцо. На тротуарах люди молча провожают автобус взглядом. Тогда еще не было моды аплодировать ушедшему артисту или поэту. Машины уходят на кольцо в сторону Ваганьковского кладбища.
Пусто.
Высоцкий умирал в кругу друзей. Горестное событие стало известно сразу и всем. Не то ему бы не дали омрачить торжество олимпийских принципов в Москве, как это случилось во время Игр доброй воли в Питере с нашим первовосходителем на Эверест Владимиром Балыбердиным. Его убил автофургон с пьяным иностранцем за рулем. Альпинист был за рулем, документы при нем. Однако его тело положили в холодильник как неопознанное и сообщили жене спустя неделю после окончания спортивного действа. Замечательный парень, выдающийся альпинист, награжденный, между прочим, высшей наградой государства, провалялся в морге второй столицы этого самого государства как безымянный бомж.
Теперь изменилось все: появились компьютеры, легальные миллионеры, страна стала другой, какой не знал ее Владимир Высоцкий; а люди, несмотря ни на что, все еще те же самые. В большинстве.
Не выпускайте негативы из рук. Это память. Ну разумеется, ваша, но иногда может пригодиться и кому-нибудь заинтересованному ненадолго.
Марина Мстиславовна, Любовь Андреевна и «В.Ш.»
Аня:…А в Париже я на воздушном шаре летала.
А.Чехов. «Вишневый сад»«Слава как усы. Примерить хочется каждому мужчине. Глядишь, иному и к лицу.
Женщине же – напротив: усы решительно ни к чему, хотя и обращают на себя внимание. Достигшая славы женщина вызывает сочувствие. К тому же где-нибудь да отыщется почитатель, который в поисках понимания у той части общества, которая, все забыв, ничего хорошего не простила, скажет: “А ведь мы помним ее молодой безусой девчонкой”.
Слава может быть постоянной, как долги, или скоротечной, как случайные деньги. Скорая и шумная, она хоть и граничит с приличием, но уже с другой стороны.
Всемирной же славы у порядочных людей не бывает вовсе. Зато бывает признание, то есть знак признательности и благодарности за обретенную всеми (зачеркнуто), большинством (зачеркнуто), разумной частью людей возможность познать себя и мир, насладиться мудростью, искусствами, науками… Словом, за добавления к тому миру, что оставил нам Создатель.
Оценка же твоего достоинства укрывается в сердцах друзей, тихих почитателей, трезвых, впрочем, и профессионалов узкого круга, огражденного от круга широкого чувством меры и вкуса.
“Известность по качеству” – так трактовал славу мой добрый знакомый Владимир Иванович Д. Качества же, как вероломство, властолюбие, жестокость, много заметнее для народов против скромной доброты или пусть великого, но частного таланта человека, рождающего мысль и образ или созидающего хлеб и дом. Здесь для восприятия надобно участие, то есть усилие над собой. А там лишь вообрази себя корыстным разрушителем или негодяем и следуй за подобным. Проще и заразительней.
Вот мировая слава: молва, общее мнение – не важно и какое. Как тут без большой пакости?
В.Ш.»Перед вами страница рукописи, лежавшая в обгоревшей гондоле, сплетенной из ивовых веток, найденной нами с моим другом Всеволодом Михайловичем Арсеньевым, фотографом и журналистом, близ разрушенной плотины на речке Руна в Тверской глуши, где мы ловили окуней. Иных по тридцати граммов (каждый). По всей вероятности, записи принадлежали воздухоплавателю и философу, и, хотя к предполагаемым заметкам о Марине Мстиславовне Неёловой они прямого отношения не имеют, я решился опубликовать текст «В.Ш.» (как значилось на бумаге в нижнем правом углу), поскольку испытываю признательность к таланту этой современной нам актрисы, тем более что неподалеку от гондолы Арсеньев нашел фотографию, на которой была изображена женщина в длинном платье, сидящая у круглого белого столика. И она же на скамье с книгой на другой, мокрой от росы фотографии. Чем-то эта женщина (точнее, решительно всем) напоминала Марину Мстиславовну.
Позади виднелись цветущие деревья (вишневые, как нам показалось) на фоне старой усадьбы. Строение выглядело не новым и не русским. Женщина смотрела мимо объектива и поэтому снимающего не видела.
К воротнику платья, изображенного на карточке, покрытой росой, прилип реальный листик брусники, я снял его (как оказалось, вместе с частью изображения) и не глядя отдал фотографию Арсеньеву.
– Ну ты хорош! Вместе с эмульсией отодрал. Ну, Юрий! – Он положил картинку на солнце. – Что там было?
– Вишневый сад.
Разговор о нем шел давно, и Марина Мстиславовна боялась его. Она уже играла в прошлой версии «Современника» Аню. Это была не ее роль. Потому она мучилась страшно, не любила эту Аню, не любила себя, не любила спектакль. Словосочетание «Вишневый сад» вызывало в ней ощущение какой-то беды…
Галина Борисовна Волчек предложила ей сыграть Анину маму – Любовь Андреевну Раневскую, которую Марина Мстиславовна тоже не любила.
Она жила с мужем и дочерью в Париже, время от времени приезжая в Москву на Чистые пруды играть в театре и репетировать. Возвращения не вызывали у Марины Мстиславовны никаких особенных чувств, ибо ностальгии она не испытывала.
«Мой старый пруд… Мой милый добрый театр…» – этого не было.
Ей говорили, что зря она прервала свою актерскую карьеру, что она попусту потеряет пять лет и надолго выпадет из такой бурной и насыщенной московской жизни. Однако в эту самую жизнь она никогда и не впадала, за пять лет она, возможно, и не сыграла бы больше ролей, чем сыграла наездами из Парижа, а что до карьеры – много ли он прибавит к тому, что уже обрела?..
Нет, нет. Музеи, книги на балконе, дочь на велосипеде, коричневая собака на зеленой траве, до Тракадеро – три минуты, до Триумфальной арки – пять. Она решительно не считала эти годы потерянными: театр, кино в России, репетиции, спектакли, гастроли и даже премьера «Адского сада», который представлялся ей вполне райским в сравнении с нелюбимым «Вишневым».
Между тем спектакль надвигался, и она думала, что не сыграть Раневскую было бы глупо, хотя она ее себе никогда не воображала, да и не знала лично, а видела лишь глазами Ани и глазами зрителя других Раневских, которых на сцене перевидала немало.
Была весна. Она с семьей отдыхала на даче посольства под Парижем, в Манте, в усадьбе Альфреда де Мюссе с замечательной красоты лужайками, парком и старым садом, значительная часть которого засажена вишней, которая к их приезду уже отцветала.
– Представь, Арсеньев, они идут по дорожке, а вокруг пурга.
– Пурга, так-так.
– Эта пурга из опадающего вишневого цвета переметает путь. Вокруг все зелено, а здесь родная метель. Зима: лепестки, как снежинки, ложатся на плечи, ресницы. И хотя они не тают, и хотя это Франция, хотя это не ее дом и не дом Раневской и никто из новых русских не собирается покупать усадьбу Мюссе, она вдруг чувствует невероятное волнение и тревогу.
– Тревогу-то отчего? Ты же говоришь – она не в России.
– Она бежит в дом, распаковывает чемодан, достает Чехова и возвращается в сад. Садится на скамейку, кладет на нее пьесу и, заняв соответствующую тому времени позу, начинает читать.
– Солнце светит?
– Светит.
– Правильно, и тут ее на секунду накрывает круглая тень.
– Откуда ты знаешь?
– На фотографии тень сохранилась.
– Она поднимает глаза и видит монгольфьер, опускает глаза в текст и начинает плакать. Сразу, чего совершенно не предполагала. Она знала пьесу наизусть, но, может быть, эта вишневая вьюга в чужом именье заставила ее вспомнить о своей жизни, в которой она никогда не существовала. Она стала уединяться и читать свою будущую сценическую судьбу. Впрочем, разве только сценическую? Потом сад оголился. На фоне чужой зеленой компании он стоял сиротой и ждал. Это дало ей новую волну переживаний.
– Никудышные у актеров нервы…
– Никудышные. Вживаешься в другого человека, тратишься, а потом то ли он тебя покидает, то ли ты выживаешь его из себя. Точнее, эти выдуманные персонажи сами вытесняют друг друга, всякий раз что-то принося с собой и отбирая.
– Беда. Тут только реальные персонажи отбирают, правда, под выдуманное. Ну-ну…
– Она читала, и постепенно у нее возникало ощущение, что она очень хорошо знает эту женщину, понимает ее и симпатизирует. Временами она, поправив очки, смотрела по сторонам, ловя себя на мысли, что этот жест оборонительный. Она охраняла Раневскую, до которой французам не было никакого дела, но если бы кто посмел ее обидеть, она бы ее защитила.
– Юрий! Ты червей не перевернул? А то расползутся по палатке… Слушай, она что же, такая впечатлительная? Да? Романтическая?
– Да нет, вполне рассудочная, трезвая. Но тем не менее, она волновалась за Раневскую, потому что у нее начался с ней роман, который, кстати, продолжается и по сей день в «Современнике». И роман этот развивался по всем законам жанра. Сначала она на нее иначе взглянула, потом проявила интерес (Любовь Андреевна привлекла ее), затем она стала ждать свиданий с ней. Словом, влюбилась. Неёлова стала открывать в Раеевской новые, радующие ее качества, и та стала заполняться красками, обрела душу и плоть.