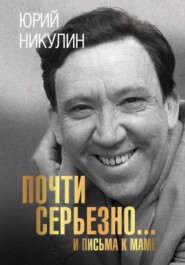По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Почти серьезно…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В переполненном товарном вагоне, лежа на нарах, подложив под голову вещмешок, я размышлял, как жить дальше. В год демобилизации мне исполнялось двадцать пять лет. Вполне взрослый человек. Не будь войны, я к этому времени приобрел бы какую-нибудь гражданскую профессию и, возможно, женившись, начал самостоятельную жизнь.
За открытой дверью теплушки проплывали разрушенные города и сожженные деревни. Узнав, что мы подъезжаем к Смоленску, я оживился. Здесь наш состав простоял два часа. С тоской я смотрел на этот некогда красивый, зеленый, уютный город, а теперь полуразрушенный, обгоревший и мрачный. Казалось, что уцелела только древняя крепость на горе. (Когда я маленьким гостил у бабушки в Смоленске, эта древняя крепость на горе Веселухе манила меня. Стены крепости настолько широкие, что по их верху могла проехать тройка лошадей. Около одной из башен мне показали ровную площадку, где якобы обедал Наполеон. Я ползал по траве, надеясь найти остатки наполеоновского обеда. Почему-то все искал рыбью кость.)
За годы войны пришлось повидать много разрушенных селений, которые значились только на карте. На их месте, словно обелиски, торчали одни почерневшие печки.
Мы возвращались домой в таких же теплушках, в которых нас, призывников, везли в 1939 году из Москвы в Ленинград. Тогда все вокруг говорили о доме, близких, любимых, а сейчас вспоминали войну: кто где воевал, получил ранение, как выходил из окружения, как переносил бомбежку. В дороге пели под трофейный аккордеон фронтовые песни.
Я ехал и думал о войне как о самой ужасной трагедии на земле, о бессмысленном истреблении людьми друг друга. До войны я прочел книгу Ремарка «На Западном фронте без перемен». Книга мне понравилась, но она меня не поразила. В освобожденной Риге, в подвале одного из домов, разбитого снарядом, мы с Ефимом Лейбовичем наткнулись на груду книг. И среди них мы нашли роман Ремарка «Обратный путь», который позже издавался под названием «Возвращение». Роман о судьбе солдат времен Первой мировой войны, вернувшихся домой. Эту книгу мы с Ефимом прочли запоем. Она нас потрясла своей убедительностью и откровенностью. Читал я роман и все на себя примеривал – герои-то его мои ровесники. Ведь я, как и ремарковские солдаты, также прошел войну и возвращался домой. Но я не думал, что меня ждет безысходность, опустошенность, как героев Ремарка, хотя и понимал, что перестраиваться будет трудно. В армии меня кормили, одевали, будили, за меня все время думали, мною руководили. Единственной моей заботой было не терять присутствия духа, стараться точнее выполнить приказ и по возможности уберечься от осколков, от шальной пули. В армии я понял цену жизни и куска хлеба.
И хотя возвращался домой несколько растерянным и в сомнениях, главное, что ощущал, – радость. Радовался тому, что остался жив, что ждут меня дома родные, любимая девушка и друзья. «Все образуется, – думал я. – Если пережил эту страшную войну, то все остальное как-нибудь преодолею».
Отец с матерью, друзья мне по-прежнему представлялись такими же, какими я оставил их, когда уходил в армию. Ну наверное, постарели немного, похудели, но ведь те же. Перед самой демобилизацией – в первый раз за годы войны – мама прислала мне свою фотографию. На карточке она была худой, поседевшей. Ее снимали для Доски почета на работе, поэтому к черной кофте мама прикрепила медаль «За победу над Германией». На батарее я всем показывал фотографию мамы.
Через четыре дня я стоял на площади у Рижского вокзала. Москва встретила солнечным днем. Я шагал по столице со своим черным фанерным чемоданчиком, в котором лежали толстая потрепанная тетрадь с песнями, книги, записная книжка с анекдотами, письма от родных и любимой. Еще на вокзале я подошел к телефону-автомату и, опустив дрожащей рукой монетку, услышав гудок, набрал домашний номер телефона, который помнил все эти годы: Е-1-26-04. (В то время вместо первой цифры набирали букву, считалось, что так легче запомнить номер.)
– Слушаю, – раздалось в трубке. К телефону подошла мама, я сразу узнал ее голос.
– Мама, это я!
– Володя, это Юра, Володя… – услышал я, как мама радостно звала отца к телефону.
Отец с места в карьер, как будто я и не уезжал на семь лет из дому, сказал:
– Слушаю! Как жалко, что поезд поздно пришел. Сегодня твои на «Динамо» играют со «Спартаком».
Я почувствовал в голосе отца нотки сожаления. Он собрался идти на матч и огорчался, что придется оставаться дома. Тогда я сказал, чтобы он ехал на стадион, а сам обещал приехать на второй тайм.
Он с восторгом согласился:
– Прекрасно! Я еду на стадион. Билет возьму и тебе. После первого тайма встречаемся на контроле у Южной трибуны.
Пока я трясся в трамвае, шел по Разгуляю к Токмакову переулку, сердце так бешено колотилось, что подумал: наверное, вот так люди умирают от радости.
И папиросу докурили…
У ворот дома меня уже ждала мама. Мама! За годы войны она сильно изменилась. На осунувшемся лице выделялись ее огромные глаза, волосы совсем побелели.
Когда я вошел в комнату, радостно запрыгала собака Малька. Она меня не забыла. Вскоре появился мой школьный друг Шура Скалыга. Он недавно вернулся из Венгрии, где служил в танковых частях. На его груди красовался орден Славы третьей степени. Вместе с Шурой, наскоро поев, мы помчались на «Динамо».
Успели как раз к перерыву. Отец стоял у контроля. Я еще издали заметил его сутулую фигуру в знакомой мне серой кепке.
– Папа! – заорал я.
Отец поднял руку, и мы кинулись друг к другу. Пока мы целовались, Шурка кричал контролерам:
– Глядите! Глядите! Они всю войну не виделись! Он вернулся! Это отец и сын!!
Под эти крики мы вдвоем с Шуркой прошли мимо ошеломленных контролеров на один билет.
Не помню, как сыграли в тот день «Спартак» и «Динамо», но матч стал для меня праздником.
Я в Москве. Дома. И, как в доброе довоенное время, сижу с отцом и Шуркой Скалыгой на Южной трибуне стадиона «Динамо», смотрю на зеленое поле, по которому бегают игроки, слышу крики и свист болельщиков и думаю: «Вот это и есть, наверное, настоящее счастье».
Отец почти не изменился. У него по-прежнему молодое, без морщин, лицо и ни одного седого волоса. Правда, он стал носить очки и начал курить.
Когда после матча мы пришли домой, отец торжественно достал из ящика письменного стола коробку «Казбека», где лежала недокуренная папироса, на мундштуке которой он сделал надпись: «9 мая 1945 года». Именно в тот день отец не докурил папироску, решив, что докурит ее, когда я вернусь из армии.
Он затягивался папироской, хваля ее особый вкус.
Пока мама готовила на кухне ужин, я вышел во двор в гимнастерке, с тремя медалями, полученными за войну: «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Все вокруг выглядело необычным и странным, хотя на самом деле вроде бы ничего и не изменилось с тех пор, как я ушел в армию.
Просто я на все смотрел другими глазами. В армии я стал взрослым.
За ужином отец, мать, Шурка Скалыга, дядя Ганя вспоминали войну. Отец демонстрировал последние трюки, выученные собакой Малькой.
– Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога! – говорил он монотонным голосом, и Малька забиралась под подушку и замирала.
А как только отец объявлял: «Отбой воздушной тревоги!» – Малька выскакивала из-под подушки и начинала с радостным лаем носиться по комнате.
Мы сидели в шестнадцатиметровой комнате с двумя окнами, выходящими на кирпичную стену. Эту комнату родителям дали после письма батальонного комиссара 115-го полка Спиридонова, который, узнав в разговоре со мной, что мы тесно живем, послал ходатайства в райисполком и райвоенкомат, чтобы родителям сержанта Никулина улучшили жилищные условия. И когда в нашей квартире освободилась комната соседей, в нее разрешили перейти моим родителям. В сравнении со старой девятиметровой комнатушкой эта казалась нам огромной.
В первые недели после демобилизации я встречал своих однополчан. Первым увидел Яшу Богданова. (Того самого веселого парня, который пел песни, когда мы, призывники, ехали из Москвы в Ленинград.) Он работал администратором в саду имени Баумана. Встретился и с Мишей Вальковым. У него дома мы провели вместе чудесный вечер.
Дома, во дворе, воспоминания детства вернули меня на какое-то время в довоенные годы. На третий день после приезда я с подростками соседнего двора играл даже в футбол. Старушка, у которой мы разбили мячом стекло, горестно говорила:
– Ну я понимаю, эти школьники – шалопаи, но Юрий-то, воин усатый, куда он лезет?..
Совсем другими глазами я стал смотреть на людей, с которыми встречался. Да, война наложила свой отпечаток на все. На внешность, на психологию людей.
Жизнь в 1946 году была тяжелой. Карточная система. Долго я не мог разобраться в продовольственных карточках, что и по каким талонам можно получать. Каждый работающий прикреплялся к определенному магазину-распределителю, где имел право «отовариваться». Помню, отец спросил меня:
– Земля вертится?
– Вертится, – ответил я.
– А почему люди не падают?.. – И сам ответил: – Потому что прикреплены к магазинам.
С грустью я узнавал о друзьях и знакомых, не вернувшихся с войны. Из нашего бывшего десятого класса «А» погибло четверо, с нашего двора – двенадцать человек.
Из писем родителей я знал о гибели на фронте многих моих товарищей по школе и по двору. Но, встречаясь с родителями погибших, еще сильнее ощущал горечь и печаль утраты. И все время чувствовал себя виноватым перед родителями погибших. Виноватым в том, что остался жив. Мне казалось, что мое появление делает их горе еще более острым.
Первый месяц жизни в Москве ушел на хождение по гостям. Каждый день я встречался с родными, знакомыми. Везде расспросы и угощения.
Композитор Кирилл Молчанов как-то рассказывал мне, что, работая директором Большого театра, он каждый раз Девятого мая выходил на площадь перед театром и смотрел на встречу ветеранов войны. С каждым годом этих людей с сединами становилось все меньше и меньше. Уже фильмы о войне снимают режиссеры средних лет, которые войны как следует не знают. Но растет число молодых, приходящих на эти встречи у Большого театра.
После войны я часто получал письма с фотографиями от моих однополчан. И с трудом в пожилых лицах узнавал молодых ребят теперь уже далеких военных лет.
Мой отец, вспоминая о своем детстве, рассказывал, как однажды ему, совсем маленькому, на улице показали глубокого старика. Этого старика под руки вели в церковь. Он с трудом передвигал ноги. Как говорили, старик – единственный оставшийся в живых участник войны с Наполеоном.