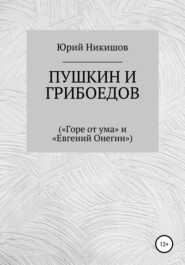По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Герой нашего времени»: не роман, а цикл
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказчик поумнел в коротком промежутке между двумя записями в журнале? Нет, весь «базовый» жизненный опыт привезен Печориным из столицы. Ага, значит, в «Тамани» просто вспоминается не то, что нужно, – какой-то взгляд из тех, что в старые годы «самовластно играли… жизнью»? А в «Княжне Мери» при встрече с Верой Печорин рад возвращению в сердце благотворных бурь молодости; это не мешает ему, при смене адресации дум, мыслить хладнокровно.
А. К. Жолковский по поводу сюжетной ситуации «Тамани» пишет: «Здесь, как в капле воды, отражается главная коллизия сюжета, построенного на неправильном “прочтении” героями друг друга. Печорин воспринимает героиню в терминах “донжуанского” кода – как экзотический объект для любовной интриги, а она его в “контрабандистском” коде – как сыщика»[49 - Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы – М.: Наука, 1994. С. 280.].
О несходстве изображения героя в «Тамани» и в «Княжне Мери» писал А. В. Западов: «если офицер в “Тамани” кое в чем сходен с героем “Княжны Мери”, то во многом от него и отличается. Настоящий Печорин вряд ли стал бы вести допрос приморских нищих, грозить донести коменданту, – он сам бы творил свой суд»[50 - Западов А. В глубине строки: О мастерстве читателя – М.: Сов. писатель, 1972. С. 145.]. Исследователь показывает и другие факты психологической неустойчивости героя: «Печорин уже в Тамани действует как опытный кавказский офицер» (с. 115); «этот сердитый офицер не похож на новичка, едва оперившегося прапорщика» (с. 116); «Таманский Печорин понимает толк в бурке и знает о ней то, что недоступно еще столичному офицеру, лишь направляющемуся в Кавказский корпус» (с. 122). И еще весьма серьезная нестыковка: «Никаких связей “Тамани” с остальными частями произведения не обнаружить ни в журнальном тексте… ни в отдельном издании, где связь показана только местоположением текста в “Журнале Печорина”» (с. 145).
Отметим жанровый аспект выделенной ситуации. Инерция ожидаемой последовательности повествования срабатывает здесь, смягчает разницу изображения героя, зачисляя ее, даже если она замечается, на счет естественного накопления опыта героя. Учтем и втягивающий азарт лермонтовского повествования. Напротив, восприятие произведения как цикла, с признанием высокой автономии компонентов, побуждает присматриваться к диалогу стыков; различие изображения предстает более заметным. А сам акт переноса каких-то деталей из одного какого-то фрагмента в другой свидетельствует о том, что произведение создавалось не последовательно (как роман!), а формировалось из автономных заготовок.
«Тамань», якобы извлеченная из тетрадей Печорина, в составе книги открывает его журнал. Только путешествие в Тамань (с намерением далее плыть морем вдоль кавказского побережья до Геленджика) плохо увязывается с биографией героя. Никак не мотивировано его пребывание на кавказской окраине (совсем не вяжущееся с местами его дальнейшего пребывания). И откуда у героя такой опыт? «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России». Он везде побывал?
Зато эта история хорошо проецируется на судьбу реального автора произведения. Лермонтова за стихи на смерть Пушкина отправили в его первую кавказскую ссылку. В дороге поэт простудился, так что кавказскую жизнь начал с лечения в Пятигорске, потом в Кисловодске. Только осенью он отправился в Тамань (дабы оттуда плыть в Геленджик <!>: там находился штаб батальона, к которому прикомандировали Лермонтова). В Геленджик Лермонтов так-таки и не поплыл, в Пятигорск возвратился[51 - См.: Андреев-Кривич С. А. Всеведенье поэта. – М.: Сов. Россия, 1973. С. 162.]. В Тамани с ним приключилась какая-то история, которой художнику хватило на сюжет новеллы[52 - См.: Удодов Б. Т. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». – С. 26.]. Автобиографизм произведения преувеличивать не будем.
Если бы «Герой нашего времени» задумывался как его история, пусть построенная как ряд фрагментов его биографии (например, так: «роман создавался как цельное произведение, все части которого объединялись стройным и глубоким замыслом»[53 - Ломунов К. Михаил Юрьевич Лермонтов. – С. 108.]), в сознании автора жизнь героя должна бы существовать целостно, и тогда не должно было быть нестыковок вроде уже отмеченной, а она не единственная. Вот первое упоминание о Печорине в повествовании Максима Максимыча («Бэла»); это и наше первое знакомство (при последовательном чтении книги) с героем: «Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. “Вы, верно, – спросил я его, – переведены сюда из России?” – “Точно так, господин штабс-капитан”, – отвечал он». А потом выясняется, что в крепость Печорин переведен не «из России» (центральной России), а из Кисловодска и Пятигорска; позади уже было приключение в Тамани, потом служба в действующем отряде, о чем только бегло упомянуто (ради мотивировки знакомства с Грушницким), лишь после этого Пятигорск и Кисловодск, там произошли (не особенно длительные, но летние) истории с Верой и с княжной Мери; в крепость прибыл из Пятигорска осенью, сопровождая транспорт с провиантом: «беленький» Печорин был бы уже основательно подкопчен кавказским солнышком. Объяснить такое противоречие может предположение: когда писалась «Бэла», журнала Печорина еще не существовало, даже и в замысле.
Подобное предположение высказывал В. В. Набоков: «Маловероятно, чтобы в процессе работы над “Бэлой” Лермонтов уже имел сложившийся замысел “Княжны Мери”. Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод, сообщаемые Максимом Максимычем в “Бэле”, не вполне совпадают с деталями, упомянутыми самим Печориным в “Княжне Мери”»[54 - Набоков В. В. Предисловие к «Герою нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. – Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та. СПб., 2002. С. 866.].
А теперь отдадим должное уже (с помощью исследователей) промелькнувшему у нас факту, что рассказчик в «Тамани» (по первому замыслу) – не просто странствующий по казенной надобности офицер, но и по совместительству профессиональный литератор. Факт сам по себе важный, но его весомость возрастает в свете приводимого Б. М. Эйхенбаумом лермонтовского предисловия к публикации «Фаталиста»: «Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели “От<ечественных> записок” помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю “Бэлы”, напечатанную в 3-й книжке “От<ечественных> записок”, а Печорин – тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. – Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался». Исследователь с полным правом констатирует, что «предисловием к “Фаталисту” Лермонтов отождествил себя с автором “Бэлы” и придал рассказанной там встрече с Максимом Максимычем совершенно документальный, мемуарный характер»[55 - Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. – С. 294.].
Но получается, что – по первому замыслу! – историю Бэлы рассказывает не условный анонимный странствующий офицер, а рассказчик автобиографический. Журнальное признание (устраненное в книжном формате) делает этот факт неоспоримым.
Л. Я. Гинзбург неоправданно занижает уровень рассказчика: это «скромный “путешествующий офицер”, который ближе к Ивану Петровичу Белкину, чем, скажем, к образу автора в “Сашке”». «Не свободен от стилистических противоречий и образ “издателя” записок Печорина. Он ведь явно задуман <?> в духе Белкина – как простой человек, человек здравого смысла и ограниченный своим здравым смыслом»[56 - Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова – Л.: ГИХЛ, 1940. С. 165, 166.].
Первоначальный автобиографизм рассказчика-офицера находит подтверждение как следствие. Мы уже отмечали, что вся история, описанная в «Тамани», хорошо проецируется на судьбу реального автора книги. Будем учитывать, что новелла создавалась как художественное творение, которому вымысел не противопоказан.
Вот теперь можно попробовать объяснить, почему эта повесть была не вдруг опубликована. Будем исходить из того, что «Тамань» написана автономно. Это верно, если иметь в виду то, что получилось, книгу «Герой нашего времени». Но есть основание предположить, что «Таманью» задумывалось начало другого (несостоявшегося) цикла – лермонтовских записок в странствиях по Кавказу. Второй повестью, написанной тем же (автобиографическим) рассказчиком, оказалась «Бэла». Журнальная публикация повести сопровождалась очень любопытным подзаголовком: «…Подзаголовок “Из записок офицера о Кавказе” позволяет предполагать, что не было еще у Лермонтова замысла романа, куда вошла бы “Бэла” как одна из его частей»[57 - Серман Илья. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. – М.: РГГУ, 2003. С. 228.]. А вот и первое, рабочее обозначение первоначально намечавшегося цикла. Записки – любопытное жанровое образование. Вроде бы оно ограничивает материал – установкой на документальность, но компенсирует это ограничение непредсказуемой широтой тематики.
«Бэла» – особенная повесть в составе книги, она в наибольшей степени соответствует своему журнальному подзаголовку; здесь изложение рассказа Максима Максимыча о необыкновенном сослуживце чередуется с непосредственными записками офицера о Кавказе! Композиционно именно записки создают повествовательную канву: они повесть начинают, потом дополняют, общением с рассказчиком заканчивают. (Еще нет исследования, как эмоционально перекликаются между собой эти две, сюжетная и «описательная», линии повествования в повести). Но очень скоро читатель получил полный текст книги. Здесь тон задает ее заглавие. Так и в «Бэле» на первый план вышел герой с фамилией персонажа из незавершенного романа «Княгиня Лиговская», он-то и перетянул одеяло на себя. («Роман начат с характеристики персонажа, который еще не появился в тексте»[58 - Федоров Ф. П. «Повести Белкина» как структура // Вестник Псковского гос. ун-та. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2015. Выпуск 1. С. 69.]). Теперь (!) возникла основа нового, «печоринского» цикла. Так что «Тамань» и «Бэла» сначала ожидали подпорки аналогичными очерками из записок офицера о Кавказе, а дождались неожиданного хода, когда пришлось встраиваться в другое произведение, даже со сменой лица рассказчика. Но произошло и такое, когда обнаружилась сюжетная связка. Печорин (в «Княжне Мери») сетует: «судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм…» В «Тамани» описывается конкретный эпизод, который стало возможным воспринимать подтверждающим печоринскую закономерность: «зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?».
Вот такой зигзаг сделала творческая история произведения. Вначале были написаны две повести из состава записок, намерение дополнить их новыми звеньями цепи привело к изменению замысла. Труднее всего далась возможность включения в состав нового целого «Тамани», которая ранее для другого состава предназначалось. Повесть была опубликована в журнале тогда, когда ей нашлось место в составе печоринского цикла.
Соотношение внешнего (кавказского) мира книги и ее внутреннего (печоринского) мира иначе воспринимает Ю. Айхенвальд: «Вообще, “Герой нашего времени” как художественное произведение больше всего спасает не фигура самого Печорина, в целом далеко не удавшаяся <сказать откровеннее – по-человечески не импонирующая исследователю>, а та обстановка, в которую он помещен, и то человеческое соседство, в котором рисуется его причудливый образ»[59 - Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. – М.: Республика, 1994. С. 101.].
А. Марченко не включила в свою книгу о Лермонтове фрагмент, напечатанный в ее статье, – что писатель присовокупил «к роману о человеке, как все, аналитическому, “малосубъективному”, и свои собственные “Записки” о своем путешествии по Кавказу (“Тамань”, “Фаталист”), задуманные и написанные до того, как возник замысел “Героя…”, – вероятно, надеясь, что никто этого не заметит. Увы, заметили! Правда, уже после смерти романиста. В 1848 году В. Г. Плаксин, бывший учитель юнкера М. Лермонтова, опубликовал в “Северном обозрении” пространную статью, где заявил: “…Какое отношение имеет Печорин в Тамани, к Печорину, похитителю Бэлы? Никакого!”»[60 - Марченко Алла. Род литературного дагерротипа // Литературная учеба. 1989. № 2. С. 139.]. Но к похожему заключению приводят и наблюдения над текстом.
Можно уловить, как в первый абзац повести «Бэла» добавляется горькая ирония. У рассказчика из вещей – один чемодан, наполовину набитый путевыми записками: «Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел». Деталь оказывается полностью автобиографической. Оказались потерянными и записки Лермонтова, но компенсация получилась более чем достойная. Новому, другому замыслу выпала честь стать неотъемлемым звеном русской литературы.
Характер изменений, вносимых в «Тамань» под влиянием перемены ракурса, просматривается. Устраняется автобиографизм рассказчика – странствующего офицера-литератора. Фактически это его аттестация заканчивала «Тамань»: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..» Повествование отдается Печорину. Равнодушие к чужим бедствиям Печорину передано с полным правом, наименование странствующим по казенной надобности не логично. Первоначально рассказчик «Тамани» был «странствующим и записывающим». Вторая из этих помет сохранилась в журнальном тексте, но затем была исключена. Подлежала бы и передача другому рассказчику помета «странствующий» – этого не сделано, поскольку в итоге этот образ стал служебным и потому непрописанным. «Путешественник, ведущий путевые записки, остается в романе условным персонажем. Его роль в романе вспомогательная: он представляет читателю основных героев романа, набрасывает их портрет и затем передает им слово»[61 - Усок И. О романе «Герой нашего времени» // Литература в школе. 1974. № 5. С. 4.]. Лермонтову становится важным только то, что это «кто-то», не он сам и не главный герой.
Тут интересен диалог знакомящихся попутчиков:
« – А теперь вы?
– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..
Я сказал ему».
Рассказчик «Бэлы» представился Максиму Максимычу; того представление удовлетворило, не воспрепятствовало его откровенности; для читателей в человеческом отношении рассказчик здесь оставлен лицом неизвестным.
Позиция Б. М. Эйхенбаума непоследовательна. Вначале он заявляет решительно, что «едущий “на перекладных из Тифлиса” писатель – вовсе не “странствующий офицер”, как принято его называть в работах о “Герое нашего времени”», поскольку «нет ни одного прямого указания или признака в пользу этого» (с. 330), но следом косвенный, но и веский аргумент у него самого все-таки находится: чтобы «поместить этого литератора на Кавказе и сделать его спутником штабс-капитана… военная профессия была самой простой и правдоподобной для того времени мотивировкой этой второй “необходимости”, между тем как появление на Кавказе штатского литератора и его быстрое сближение с Максимом Максимычем потребовали бы специальной и довольно подробной биографической мотивировки» (с. 331). Это серьезный аргумент. Человеком пишущим персонаж предстает перед читателем; у Максима Максимыча такое знание о попутчике могло бы убавить его словоохотливость. (В конце, сердитый на Печорина, он отдает тетради своему любопытствующему спутнику и на вопрос, может ли тот делать с ними все, что захочет, отвечает: «Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?» – не догадываясь, что именно печатания и хочется им одаренному). Офицерское положение могло перейти к этому персонажу и «по наследству» от первоначального замысла, когда образ рассказчика был автобиографичен (а Лермонтов был и человеком пишущим, и офицером). Так что возражения против традиционного восприятия рассказчика офицером не убедительны.
Выпадая из системы образов, рассказчик-офицер выполняет в книге важную функциональную роль. «В романтической литературе герой, будучи чаще всего alter ego автора, говорит о самом себе. Поэтому на раннем этапе развития реализма, когда автор переставал быть объектом изображения и герой не совпадал с ним, казалось необходимым мотивировать, откуда известна рассказчику судьба героя. <…> В дальнейшем, с укреплением позиций реализма, оправдание знакомства рассказчика с персонажами отпадает…»[62 - Фохт У. Р. Лермонтов: Логика творчества. – С. 163—164.].
Лиц, каким либо образом обозначенных в книге, можно разделить на две группы: изображаемых (их много) и изображающих. В повествовании различаются формы: изображение героя в поступке и характеристика его в рассказе о нем. Высказывающих свои мнения много, их перечень не нужен. Основных рассказчиков трое: Печорин, Максим Максимыч, оставленный без обозначенного имени странствующий офицер.
И. С. Юхнова в специальной статье «Образ странствующего офицера в романе М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”» отталкивается от накопленного опыта, дополняя и уточняя его. Вот пример: «Для Дурылина рассказчик не просто офицер, но офицер, сосланный на Кавказ, а если продолжить рассуждения в этом ключе, учесть, что он человек пишущий, то сослан не за дуэль или подобного рода дисциплинарный поступок, а за творчество, из-за убеждений»[63 - Юхнова И. С. Образ странствующего офицера в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2009. № 1. С. 282.]. А если «продолжить» в другом «ключе», получается иное: «…рассказчик не интересен как индивидуальность, не обретает плоть как “реальный образ” (вспомним мысль В. Мануйлова), а остается своего рода формулой, условностью» (с. 283). И не уточняется, с кем «остается» исследовательница: с «индивидуальностью» или с «формулой».
Впрочем, И. С. Юхнову более всего привлекает позиция А. А. Аникина, издавшего вторым, дополненным изданием комментарии С. Н. Дурылина с обширными своими толкованиями. А. А. Аникин освоил (не только здесь) такой прием: брать какой-нибудь факт, можно и третьестепенный, и пускать его на крыльях богатой фантазии, не заботясь о правдоподобии. И. С. Юхнова сочувственно цитирует: «Не стремился ли сам Лермонтов именно в рассказчике обозначить и еще одного героя своего времени, и вероятный поворот в своей собственной судьбе, с мечтаниями о грядущей отставке от воинской службы и, стало быть, о каком-то новом поприще? Не в таком ли облике думал возвращаться Лермонтов с Кавказа после ухода со службы?» (с. 284). Первоначальное заглавие книги было «Один из героев нашего времени». Итоговое название подчеркивает монополию героя. С точки зрения А. А. Аникина «странствующий офицер в сфере жизнестроительства победил Печорина, так как он сумел найти зоны взаимодействия с жизнью, не встал на путь разрушения» (с. 284).
Структуру системы образов книги представим иначе. Тех, о ком рассказывают, нет возможности, следовательно – и необходимости рассматривать под одним углом зрения с рассказчиками. Конечно, резкого разграничительного барьера тут нет. Более того, Максим Максимыч и Печорин предстают в обоих положениях. И все-таки роль действующих значительно отличается от роли функциональной, где человеческие прописи не обязательны. То-то И. С. Юхновой, захотевшей написать о странствующем офицере, пришлось в основном опираться не на текст книги, а на домыслы А. А. Аникина.
А как быть с реальным «рассказчиком» – автором книги? Вот точное определение: «Лермонтов, стараясь к наибольшей объективации близкого ему героя, подчеркнуто отделяет его от себя, прежде всего, особой структурой повествования: автор как бы уходит за “кулисы” романа, ставя между собой и героем “посредников”, которым и передоверяет повествование»[64 - Щипицына И. В. Межличностное взаимодействие автора, читателя и персонажей в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // https://cyberleninka.ru. – С. 2.]. Но автор, даже и незримый, обозначает свое присутствие[65 - Об исчезновении порой расстояния между автором и повествователями см.: Магаротто Л. Автор, повествователь и читатель в «Герое нашего времени» // Язык как творчество. – М.: ИРЯ РАН, 1996. С. 227—228.].
Поскольку Печорин и Максим Максимыч предстают и как изображающие, и как изображаемые, на первый план выходит их человеческое своеобразие. Но и функциональная роль записывающего офицера по-своему значительна и подлежит рассмотрению.
При сведении повестей в книгу устраняется намерение Печорина печатать свои записки. Получается: вначале реальный автор, условный автор и герой были сближены (именно на почве писательства), но в итоге в этом они разведены; только, как между магнитными полюсами, между героями возникают силовые линии взаимного притяжения/отталкивания; эти связи существеннее, чем ранее обозначенное сходство.
Попутно можно отметить парадокс. В рукописном варианте из окончания повести «Максим Максимыч» следовало, что журнал Печорина печатается еще при жизни автора-героя (с переменой фамилий), поскольку по тексту (из обращений к читателям) было видно, что записки предназначены к печати. Вместо этого вычеркнутого окончания Лермонтов написал Предисловие к журналу Печорина с сообщением о смерти героя при его возвращении из Персии. Сообщение сопровождается эмоционально шокирующим замечанием: «Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя под чужим произведением». Но в этой логике Лермонтов удваивает похищение: печатает не только записки героя, но и неизвестно как к нему попавшие записки странствующего офицера. В действительности же реальный автор демонстрирует не алчность, а полное великодушие, переадресовав автору-герою свой (вначале автономно – и без расшифровки «я» рассказчика – написанный) безусловный повествовательный шедевр, каким является повесть «Тамань».
Парадоксальная творческая история «Героя нашего времени» скрывает художественную тайну. Б. В. Томашевский почувствовал «подчиненность образов и сюжетных частей некоторому единству замысла, поверх романической и новеллистической конструкции материала, поверх распределения рассказываемых происшествий. Ощущение такого замысла, непосредственно подчиняющего себе все элементы романа, сопровождается чувством значительности произведения не только в его деталях, но и в его целом. <…> Всё побеждают естественность в развертывании образа центрального героя, незатрудненность и постепенность восприятия. В этом бесспорная оригинальность романической манеры Лермонтова, предопределившей судьбу его прозы в русской литературе»[66 - Томашевский Б. Проза Лермонтова и западно-европейская литературная традиция. – С. 514.]. Это наблюдение исследователя само по себе парадоксально: оно верно по существу – при том, что неверно в мотивировках. У Лермонтова не было «единства замысла». Не было и «естественности в развертывании образа центрального героя» (в «Тамани» и в «Княжне Мери» Печорин предстает заметно разным). А ощущение единства книги есть – вопреки активно противодействующим факторам! Оно возникает действительно как будто «поверх» всего! В этом и состоит художественная тайна лермонтовского мастерства. Остается только сдержанно предположить, что повести (новеллы) написаны плотно, у них не один, а несколько стыковочных узлов; когда не подходит планируемый, ему находится достойная замена. Общая конструкция оказывается прочной при всех обстоятельствах!
При виде такой причудливо складывающейся мозаики должно было бы окончательно пропадать желание именовать произведение романом. Но еще господствует иной подход. С опорой на редакционное примечание при публикации «Фаталиста» В. А. Кошелев пишет: «Как видим, книга изначально замышлялась как “собрание повестей”»[67 - Кошелев В. А. Историческая мифология России в творчестве Лермонтова. – С. 310.]. Сложилось так – да; но такой замысел не предшествовал началу работы, а возник в ее процессе. (При этом «собрание повестей» тем более не логично именовать романом).
Нам, если примем как теоретически вполне обоснованное жанровое обозначение цикл/книга, интересно так и сяк покрутить то, что получилось в итоге.
У нас уже проскользнул вопрос, кого считать автором двух предисловий. Разберемся в этом поподробней. Л. Магаротто полагает, что предисловие к книге написано автором, а к журналу – повествователем, но в действительности происходит «смешение» их ролей[68 - Магаротто Л. Автор, повествователь и читатель в «Герое нашего времени». – С. 233.]. Тут верно замечено, что формальное и фактическое не вполне совпадают. Предисловие к журналу Печорина приписано публикатору записок, т. е. офицеру-рассказчику; оно и представляет собой комментарии к этим запискам. Фактические комментарии, завершающие историю печоринских записок, начатую в повести «Максим Максимыч», восходят к рукописному окончанию этой повести. Это соответствует личному опыту странствующего офицера, записавшего рассказ Максима Максимыча о Бэле и засвидетельствовавшего последнюю встречу штабс-капитана и героя его воспоминаний. Тут атрибуция напрашивается. Вместе с тем в предисловии встречаются оценки, которые жалко отдавать неведомому рассказчику, поскольку они напрямую хорошо поясняют Лермонтова. Взять такое суждение: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа…» И концовка: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. “Да это злая ирония!” – скажут они. – Не знаю».
Тут остановимся, размыслим. В книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше. (Философия трагедии)» есть обобщение на уровне откровения: художники «ничему нас не “учат”. Нет большего заблуждения, чем распространенное в русской публике мнение, что писатель существует для читателя. Наоборот – читатель существует для писателя. <…> Они сами ищут света, они не верят себе, что то, что им кажется светом, есть точно свет, а не обманчивый блуждающий огонек или, хуже того, галлюцинация их расстроенного воображения. Они зовут к себе читателя как свидетеля, они от него хотят получить право думать по-своему, надеяться – право существовать»[69 - Шестов Л. Из книги «Достоевский и Ницше. (Философия трагедии)» // М. Ю Лермонтов: pro et contra. Cпб., 2014. Т. 2. С. 393.]. Будем руководствоваться такой констатацией – поймем, почему Предисловие к Журналу Печорина кончается странным признанием «Не знаю». И будем чураться односторонних оценок изображаемых явлений…
Странное признание писателя удачно поясняет Т. К. Черная: «Роман Лермонтова – это не “знание” вообще, это эксперимент, метод проб и ошибок при отсутствии четкой научной методики или теологического убеждения как у героя, так и у автора. Это означает, однако, что Лермонтов не знает, чего он хочет. У него есть чрезвычайно отчетливая цель, задача и художественный предмет – человеческая личность, понимаемая однако не только как единица мироздания, но и как его центр и его сознание»[70 - Черная Т. К. Три основополагающие художественные концепции у истоков русской классической литературы. – С. 115-116.].
Предисловие к книге написано ко второму ее изданию. Оно открывало вторую часть книги. Формально его мог написать публикатор книги. Предисловие, полагает он, «или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики»: то и другое далее реализуется. Но здесь более четко обозначен «автор этой книги». «Автор» чего странствующий офицер? Путевых вкраплений в повести «Бэла» и всей повести «Максим Максимыч». Остальное он пересказывает или присваивает (правда, в открытую). Давайте рассудим иначе. В «Герое нашего времени» много (трое) рассказчиков, но автор один – Михаил Юрьевич Лермонтов. В предисловии к книге он об этом проговаривается (автору «просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал». А это говорит уже не публикатор чужих записок, а сочинитель и этих записок, и всего остального. Противоречия не было бы, если б странствующий офицер был лицом автобиографическим; добавление предисловия привело к возврату положения, которое в книге было уже устранено. Форму повествования учитывать надо, но опорные мысли предисловия к книге справедливее отдать напрямую реальному автору.
Журнал Печорина включает три компонента. Два из них, «Тамань» и «Фаталист», – это фактически десятистраничные новеллы с целостными, завершенными сюжетами («Фаталист» на страничку объемнее, причем именно страничка оказывается лишней для сюжета, зато дает связку этой повести с «Бэлой»); повестями они именуются исключительно ради унификации обозначения компонентов (а еще разве что в тон тоже весьма несложным по сюжету и небольшим по объему «Повестям Белкина» и повестям «Вечеров на хуторе близ Диканьки»). Третий компонент, «Княжна Мери», в построении весьма своеобразен: это датированные записи дневника. Целевая установка новелл просматривается: происходят какие-то заслуживающие внимания события – они как примечательные и описываются. Целевую установку в дневнике предполагать трудно, поскольку автору записей невозможно предугадать предстоящее. Но – не будем наивными: перед нами не натуральный дневник, а художественное произведение в форме дневника: вот уж писатель-то знает, чем он начнет и чем кончит. Что-то может меняться в процессе работы, но в итоговом тексте линии прочерчиваются ясно. И мы видим: в калейдоскопе записей вырисовывается событие; оно посложнее и объемнее, чем события в новеллах, но столь же определенное, с завязкой и развязкой. Это любовная история – финальный отрезок любви Печорина к Вере. По охвату изображения жизни это уж точно повесть. Любовь героев тайная, ей требуется и находится прикрытие в виде игры – ухаживания за княжной Мери; фиктивная героиня объявлена заглавной. Калейдоскоп записей выполнил свою задачу – обрисовал всех в меру их значимости – и закончился обширной недатированной эпилоговой записью. Но получается, что «Княжна Мери» – это «Герой нашего времени» в миниатюре: аналогично построение, когда накапливаемые штрихи, имеющие свое автономное значение и оформленные как целостные поденные записи (некоторые весьма значительны по объему), сливаются в общую мозаичную панораму.
«Герой нашего времени» – не слишком объемное произведение; Э. Г. Герштейн прямо называет его маленькой книгой, «объемом всего в семь печатных листов»[71 - Герштейн Э. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. – С. 5.]. Но Лермонтов разделил его на две части: это для чего? Для К. Н. Ломунова нет ответа на другой вопрос: «когда» автору пришла мысль делить произведение на части; а для чего – исследователю ясно: писатель собрал «в первой то, что рассказывают о главном герое другие действующие лица, а во второй – то, что думает, говорит и делает он сам»[72 - Ломунов К. Михаил Юрьевич Лермонтов. – С. 105.]. Но в таком виде части оказываются очень уж непропорциональными по объему. Не по этой ли причине Лермонтов первый фрагмент журнала («Тамань») перенес в первую часть? Зато вторая часть обозначена не очень красиво: «Окончание журнала Печорина». К тому же и балансировка частей проведена не последовательно: вторая часть объемом все равно превышает первую вдвое.
Но вот вглядываемся в то, что получилось, – и оказывается, что в авторском построении можно обнаружить смысл. Ну, поровну по объему части произведения не делятся, тут просто пришлось бы резать по живому. Зато гипотезе, что основанием деления на части может выступать проблема авторства, находится косвенное подтверждение. Этому не препятствует факт, что в угоду пропорциональности частей пришлось врубаться в журнал как целое. Примем во внимание, что авторство «Тамани» вначале принадлежало не Печорину; если мотивировка закрыта для читателей, то она была ясна (и что-то значила) для писателя. Что касается балансировки частей, то, при отсутствии аптекарской точности, идет апелляция к иным соображениям: первая часть уступает второй объемом (числом страниц), зато превосходит ее количеством фрагментов; включение содержания (понятие «оглавление» было бы неуместным) с соотношением три против двух – это все-таки шаг к уравниванию частей.
Полного уравнивания частей не достигнуто. Не достигнуто автором – на помощь приходит исследователь: «В читательском восприятии роман четко разграничивается на две части. Одна представляет собою… объективное повествование о Печорине в записках странствующего офицера <“Бэла”, “Максим Максимыч”, “Предисловие” к “Журналу Печорина”>; другая – субъективно-исповедальное самораскрытие героя в его “Журнале” <“Тамань”, “Княжна Мери”, “Фаталист”>. Таким образом, в каждой половине оказывается по три своеобразных “главы”»[73 - Удодов Б. Т. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». – С. 139.]. В математике три равно трем, спорить не будем. Но одностраничное предисловие уравнять с самостоятельной повестью, все именуя «главами» (о, «своеобразными»!) – это уж слишком натянуто.
Лермонтову полное уравнивание частей и не нужно; формальному подходу противопоказано торжествовать над содержательным, а вторая часть – в этом плане – значительнее первой: «исповедь, преданная гласности после смерти автора», «становится неопровержимым и беспощадным в своей правдивости документом, которому не сопутствуют никакие соображения “пользы”, утилитарности»[74 - Коровин В. И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. – С. 223.].
Можно принять во внимание мотивировку деления книги на две части, к которой пришел Д. Е. Тамарченко: «“Двучленность” лермонтовского романа… неразрывно связана с его содержанием: первая его часть имеет своей главной целью создать картину времени, героем которого был Печорин; вторая – представляет преимущественно “историю души” его»[75 - Тамарченко Д. Е. Из истории русского классического романа. – С. 81.]. Через посредство изображения героя сходную мысль проводит В. В. Виноградов: «Образ Печорина рисуется в двух планах: с точки зрения постороннего наблюдения и в плане внутреннего его саморазвития. Отсюда две части романа, каждая из которых обладает некоторым внутренним единством, но которые органически связаны друг с другом отношениями семантического параллелизма, не всегда прямого, в иных случаях даже контрастного»[76 - Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова // Виноградов В. В. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. – М.: Наука, 1990. С. 220.].
И. А. Зайцева от называния приема идет к осмыслению художественной роли этого приема: «Роман Лермонтова – роман с двумя историями, историей внутренней жизни и историей жизни внешней. Эта двойственность – открытие. Сопоставляя внешнюю и внутреннюю жизнь, Лермонтов доказывает, что поступок не всегда позволяет создать правильное представление о человеке. Чтобы понять его совершенно, от внешнего нужно идти к внутреннему, от поступка – к объяснению его мотива, от того, что предстает взору окружающих, – к тайному, скрытому в глубине души…»[77 - Зайцева И. А. Особенности художественного психологизма в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Филологические науки. 1982. № 2. С. 51—52.]. Самый прием может наполняться психологическим содержанием, давая представление о том, кто им пользуется.
Исследовательница приводит концовку «Тамани»: «Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..» Истолкование фрагмента замечательно: «Какая-то горькая, жгучая досада остро чувствующего, ранимого человека, который пытается себя самого убедить в собственном равнодушии, – вот, по-видимому, то чувство, которое непосредственно не изображено Лермонтовым, но о котором позволяют догадаться некоторые мелкие детали: поспешная раздражительность тона, заставляющая за поверхностными фразами видеть гораздо более глубокое отношение к людям и событиям, несоответствие утверждения Печорина о равнодушии его к радостям и бедствиям человеческим явному состраданию к слепому (“бедный слепой”)» (с. 53).
Мы на пороге нового взгляда на лермонтовское творение. Но прежде надо подтвердить, что цикл вполне можно понимать не как невзрачное, смущающее, а как суверенное зрелое вторичное жанровое образование.