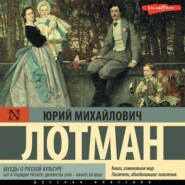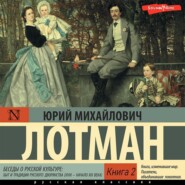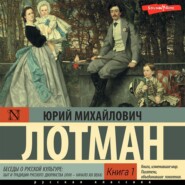По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Строение фильма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, чередуя действия, Гриффит добивался напряженного кинорассказа; чередуя рассказы, стремился передать напряжение мысли. Суммируя эволюцию повествования от Люмьера до Гриффита, можно сказать: овладевая искусством языка, кинематограф поэтапно учился показывать, учился рассказывать, пытался мыслить.
Элементы киноязыка
Точка зрения
Человек, который смотрит на что-либо, неизбежно видит различные вещи в зависимости от того, смотрит ли он издалека или вблизи, через бинокль или вплотную приблизив глаза к тому, на что смотрит, смотрит ли он вверх, задирая голову, или вниз, склонившись. То, что мы видим, зависит от того, откуда (с какой позиции) мы смотрим. В визуальных искусствах, существовавших до развития кино, точка зрения неподвижна.
Так, например, в театре зритель, купивший билет, в течение всего спектакля видит сцену с одного и того же расстояния и под одним и тем же углом зрения. Однако читатель может заметить, что если в театре зритель действительно неподвижен, то рассматривать картину можно с разного расстояния и посетители музеев обычно меняют места, рассматривая выставленные полотна. Здесь надо учесть, что в искусстве понятие точки зрения более сложно, чем в жизни[16 - Здесь и дальше речь идет о «точке зрения» в узком, зрительном понимании. О более широком, касающемся общих законов построения художественного текста, понимании этого термина читатель может прочесть в книге Б. А. Успенского «Поэтика композиции» (М., 2000).].
Когда вы смотрите на картину, то перед вами пейзаж и расположенные на нем фигуры уже нарисованы в соответствии с определенной точкой зрения, которую выбрал художник, определив тип перспективы, ракурс, размеры фигур относительно друг друга и рамки картины и т. д. Где бы вы ни стояли глядя на картину, изменить избранную художником позицию вы не в силах.
Если художник нарисовал стол так, что его столешница не видна, вы не увидите ее, даже если встанете на лестницу и ваша зрительская точка зрения будет находиться над картиной. В равной мере, даже если вы ляжете на пол, вы не увидите, что делается под столом, если художник нарисовал его в ракурсе сверху. При взгляде на картину положение зрителя играет определенную, но не доминирующую роль. Зритель подчиняется точке зрения, выбранной художником, и как бы переносится на нее, мысленно перемещаясь в пространстве.
Кино – единственный вид зрительного искусства, в котором точка зрения обладает подвижностью и поэтому получает особенно важную роль в построении языка этого искусства.
Точка зрения объективная и субъективная
Вернемся к нашему примеру со столешницей. Предположим, художник изобразил се с точки зрения человека, сидящего за столом (такая точка зрения считается общепринятой для натюрмортов). Ни у кого не возникнет вопроса, почему художник предпочел именно такую исходную позицию, – столы делают для того, чтобы за ними сидеть. Теперь вообразим, что стол изображен снизу и мы видим его нижнюю плоскость, а что лежит на столе, мы видеть не можем. У зрителя тотчас возникнет вопрос: почему? Кто видит стол снизу вверх? Может быть, художник изобразил его с точки зрения пьяного или собаки?
Можно сказать: когда предмет изображен с привычной нам точки зрения, нас интересует сам предмет и мы не задумываемся о том, кто на него смотрит. Когда же точка зрения необычна, мы ощущаем ее как чью-то, не нашу, и нас начинает интересовать, кто этот невидимый носитель озадачившей нас точки зрения? Иначе говоря, когда у нас не возникает вопросов по поводу точки зрения, мы можем считать ее объективной, когда же такие вопросы возникают, то мы имеем дело с субъективной точкой зрения.
Как нам известно, в кино точка зрения свободна. Теоретически рассуждая, нет такого места, куда нельзя было бы приспособить кинокамеру. Таким образом, киноязык сочетает в себе как минимум две возможности смотреть на вещи – внутреннюю и внешнюю. События, происходящие с героем, могут быть увидены его глазами или глазами стороннего наблюдателя. Чаще всего создатели фильма в своем рассказе объективную и субъективную точку зрения чередуют.
Где проходит граница между субъективным и объективным видением в кино и всегда ли мы можем сказать, какую из двух точек зрения представляет данный кадр? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сразу задать следующий: а о каком периоде в истории кино идет разговор? Как и всякая граница, граница между субъективным и объективным в кино многократно пересматривалась. В первые годы даже самое незначительное отступление от строго регламентированной точки зрения – аппарат на уровне глаз, дистанция между объективом и актером не менее трех метров – выводило точку зрения из разряда обычных. У зрителя возникал вопрос: «Почему?» – и чтобы удовлетворить его недоумение, создатели фильма подсказывали: вот старик смотрит в телескоп и видит все необычайно близко, вот любитель виски, перед глазами которого улица ходит ходуном. Иначе говоря, смена точки зрения нуждалась в оправдании, мотивировке, и такой мотивировкой чаще всего служило объяснение: это видим не мы, а кто-то другой. Но «непривычное» в истории кино – критерий ненадежный.
Вещь, снятая с близкого расстояния, скоро перестала означать, что кто-то ее пристально рассматривает. Сменяемость точек зрения тоже вошла в привычку. Дольше всего в оправдании нуждался ракурс – нижняя или верхняя точка зрения на предмет. В статье «О композиции короткометражного сценария» С. М. Эйзенштейн вспоминал: «Когда-то считалось, что точка зрения аппарата всегда и неизменно должна мотивироваться поведением действующего лица. И когда я в 1924 году в “Стачке” начал снимать целый ряд вещей в определенном ракурсе, не мотивируя точкой зрения персонажа, это казалось революцией в обращении с киноаппаратом и вызывало горячие споры»[17 - Фильм Эйзенштейна «Стачка» сравнивали с таким направлением в живописи, как кубизм: без видимых сюжетных оправданий художники-кубисты старались сочетать в живописи несколько точек зрения на предмет.]. Другой теоретик двадцатых годов, Ю. Н. Тынянов, усматривал в отбрасывании фабульных оправданий главную закономерность развития кино: «Таков путь эволюции приемов кино: они отрываются от внешних мотивировок и приобретают свой смысл; иначе говоря, они отрываются от одного, внеположенного смысла – и приобретают много своих внутриположенных смыслов».
В нашем случае точка зрения, какой бы экстравагантной она ни казалась, оторвалась от обязательной повинности выражать чье-либо субъективное видение. В современном киноязыке любая точка зрения свободна быть как субъективной, так и объективной. Сказать, какую из этих двух возможностей осуществляет данный кадр, можно только (причем тоже не всегда) исходя из общего построения фильма.
Тем не менее в языке кино, хоть и нет строгих законов, существуют определенные тенденции. Одна из таких тенденций подталкивает нас к тому, чтобы некоторые сочетания точек зрения прочитывались нами как переход от объективного видения к субъективному (или наоборот). Например, если в картинной галерее рядом висят две картины – портрет и натюрморт с тарелкой супа, то нам не придет в голову считать натюрморт субъективной точкой зрения изображенного на портрете человека. Но если такие изображения следуют одно за другим на экране, они сольются для нас в смыслосочетание «человек смотрит на тарелку». Или: дорога, бегущая под нижнюю кромку кадра, заставляет нас предположить, что в следующем кадре мы увидим смену субъективного видения объективным – изображение едущего автомобиля. Таких стереотипов в языке кино немало, но их предписаниям подчиняются главным образом зрители, а не авторы фильма. Зритель настраивается, и уже режиссер решает, оправдать его ожидания или обмануть.
В литовском фильме «Никто не хотел умирать» (1966; режиссер В. Жалакявичюс) в одном из финальных кадров мы видим главу преступной банды. Зритель понимает, что бандиту пришел конец, и ждет, откуда прозвучит выстрел. В такой ситуации всякое неожиданное изменение точки зрения будет прочитано нами как угроза, как знак того, что бандит обнаружен. В частности, оттенок угрозы приобретает всякий намек на то, что мы видим его с точки зрения другого лица. Автор фильма действительно внезапно меняет положение аппарата: мы видим крупный план бандита, затем – его же лицо, снятое в профиль. Но строгий геометризм этого перехода (угол 903 без изменения крупности) неожиданно отсылает зрителя не к привычным кинематографическим стереотипам, а к сочетанию фаса и профиля, знакомому по фотографиям в уголовных досье. Смена точек зрения вывела зрителя из фабульного русла и из кинематографической игры «кто кого первым увидит» превратилась в метафору приговора.
Другой, более сложный пример. В фильме бенгальского режиссера Р. Гхатака «Живое существо автомобиль» (1957) речь идет о сложных отношениях между водителем такси и его машиной, которую герой, а постепенно и зритель, начинает воспринимать как живое существо. Чувствуя, что ее хотят отдать на металлолом, машина пытается броситься вместе с водителем в пропасть, а когда ей это все-таки не удается, останавливается на горной дороге и отказывается ехать дальше. В следующем кадре мы видим дорогу, весело убегающую под нижний край кадра, и заключаем, что машина уступила уговорам водителя, и, как прежде, оба в любви и согласии совершают свой путь. То есть мы, руководствуясь зрительским опытом, прочли движение камеры по шоссе как субъективное видение героя. Однако за горным поворотом нам открывается неутешительная картина: знакомое дряхлое такси уныло стоит на обочине, а рядом с ним понуро сидит водитель…
Приостановим наше описание и разберемся, что испытал зритель в этот момент? Симпатизируя герою (он и так много лет мучится с полюбившейся ему колымагой и не подчиняется требованию хозяина гаража пустить автомобиль на слом) и сочувствуя трагедии норовистого и ревнивого такси, зритель испытывает нежданную радость, поверив было в благополучное разрешение конфликта. Увидев за поворотом дороги таксиста и его машину, мы понимаем, что поспешили, истолковав кадр набегающей дороги как точку зрения героя. Надежду на благополучный исход приходится отложить. Между тем кадр продолжается – мы приближаемся к сидящему у машины герою. Что испытывает зритель в этот момент? Убедившись в своей ошибке, он решает, что изображение выражает точку зрения неведомого водителя, который сейчас остановится и предложит помощь попавшему в переделку таксисту. Действительно, движение, замедляясь, прекращается возле нашего героя. Но он даже не поднял головы – мы с изумлением убеждаемся, что то, что мы сначала принимали за субъективную точку зрения таксиста, а затем – за точку зрения другого автомобилиста, вообще не является ничьей субъективной точкой зрения. У зрителя снова падает сердце – значит, к герою никто не подъехал… В этот момент мы с особой остротой чувствуем безысходность драмы, которую решился вообразить и показать нам режиссер Гхатак, – одиночество любви человека и вещи, эмоциональной связи между миром органическим и механическим[18 - Эта тема не должна показаться надуманной: в конце 1950-х годов в литературу и кино проникла проблема искусственного интеллекта (например, любовь к роботу и борьба с ним у А. Азимова), в наше время возродившаяся в фильмах о дружбе ребенка и компьютера.]. Но ощущаем мы всю глубину этой драмы именно потому, что на протяжении всего лишь одного кадра режиссер заставил нас дважды испытать прилив радости и разочарования, причем добился он этого предельно экономным способом – всего лишь нарушив общепринятую условность киноязыка.
Означает ли сказанное, что всякая съемка с движения автоматически воспринимается нами в качестве субъективной точки зрения? Безусловно, нет. Если бы в фильме «Живое существо автомобиль» мы встретили обыкновенный «наезд» (когда наше поле зрения неуклонно приближается к объекту съемки), мы бы и не подумали принимать его за субъективную точку зрения. Дело в том, что в движении камеры мы очень чутко реагируем на рисунок траектории. Бывает, что такая траектория не абстрактна и за ней угадывается знакомая нам в повседневной жизни логика – взгляда, жеста, поведения. Иногда траектория движения оказывается очень сильным воздействующим фактором. В русском фильме Е. Бауэра «Холодные души» (1914) камера медленно панорамирует по женской фигуре, позволяя зрителю рассмотреть все детали богатого дамского туалета. Этот кадр никому не показался безнравственным и даже у русской цензуры того времени не вызвал возражений. Однако когда американский режиссер Э. фон Штрогейм в 1919 году в фильме «Слепые мужья» сопроводил такую панораму кадром мужчины и его оценивающим взглядом, сцена вызвала скандал, а после другого фильма фон Штрогейма, «Глупые жены» (1921), американская цензура выпустила циркуляр: «Вырезать графа Сергея, меряющего девушку взглядом. Вырезать крупный план, где камера ползет от ног девушки к голове». Непристойной показалась не сама панорама, а жест, который изображала траектория аппарата.
В истории кино встречаются случаи, когда фигура, которую вычертил в воздухе объектив киноаппарата, предстает перед зрителем в виде загадки, своеобразного иероглифа. Автор фильма как бы предлагает зрителю: угадай, чью точку зрения изобразил росчерк нашей камеры! В конце 1920-х годов этим увлекались документалисты братья Дзига Вертов и Михаил Кауфман, виртуозно владевшие языком кино. Среди их экспериментов следует упомянуть фильм «Человек с киноаппаратом» (1929), в котором таких загадок достаточно. Одна из них такова: в ткацком цехе аппарат с методической регулярностью переводит взгляд от одной ткачихи к другой (ракурс снизу вверх). Когда таких колебаний накапливается много, вдруг понимаешь: аппарат выражает точку зрения снующего ткацкого челнока. В фильме Кауфмана «Весной» (1929) оператор, примостившись на подножке паровоза, снимал шатун, приводящий в движение колеса. При этом к шатуну был прикреплен еще один киноаппарат, снимавший кинооператора на подножке. В рецензиях на этот фильм газеты того времени писали: «Мы видим не только как работает шатун – мы видим еще и то, что видит шатун, когда его снимают».
В последних примерах обратим внимание на любопытный парадокс. Автор предлагает нам принять точку зрения неодушевленного предмета. Но неодушевленный предмет не может иметь точки зрения, потому что он вообще не имеет зрения. Но именно это противоречие, по мнению кинематографистов 1920-х годов, и делает привлекательным прием субъективного видения. Нет ничего необычного, когда мы видим, как дети играют в снежки. Не слишком удивит нас и кадр, снятый с точки зрения школьника, в которого попал снежок. А вот если игру в снежки снять с точки зрения летящего снежка, как это собирался сделать режиссер Абель Ганс в фильме «Наполеон» (1927, Франция) – для этого кадра была сконструирована специальная миниатюрная кинокамера, удобная для перебрасывания, – то зритель получит возможность увидеть происходящее так, как никогда в жизни видеть не доводилось.
И еще один парадокс. В начале этой главы мы уже говорили, что чем непривычнее для зрителя оказывается выбранная авторами фильма точка зрения, тем острее ощущение, что она представляет чей-то субъективный взгляд. Возьмем крайний случай – сцена снимается с такой точки, где присутствие человека физически невозможно. Как воспримет зритель подобный кадр?
Сравним между собой три примера, в которых точка зрения на событие не позволяет предположить, что происходящее наблюдает человеческое существо. К таким точкам зрения будет принадлежать взгляд из-под воды.
В фильме К. Муратовой «Короткие встречи» (1968) есть сцена, драматургическое содержание которой – семейная идиллия, момент затишья в сложных отношениях между мужем (В. Высоцкий) и женой (К. Муратова). Мирно беседуя, супруги готовят праздничный обед, к которому будут поданы вареные раки. Сцена вполне обычная, за исключением точки зрения, – мы видим ее участников как бы со дна кастрюли, заполненной водой. Улыбаясь друг другу и обмениваясь репликами, Муратова и Высоцкий время от времени опускают в кастрюлю рака, другого, третьего… В эту минуту со зрителем происходит удивительная вещь – как только первый рак, плавая, оказывается в поле зрения между ним и участниками сцены, происходящее предстает перед нами в ином свете – с точки зрения обреченного на варку рака. Сознание зрителя, не смущаясь тем, что раки едва ли в состоянии слышать человеческую речь и понимать человеческие взаимоотношения, ухватилось за эту субъективную точку зрения и взглянуло на наш мир глазами существ, о которых мы не привыкли думать и которых загодя лишаем способности чувствовать и воспринимать.
Тут следует оговориться, что в фильме «Короткие встречи», как и во всяком художественном произведении, «точка зрения рака» обретает обобщенное значение не сама по себе, а благодаря тому, что в сгущенном, концентрированном виде воплощает в себе художественный конфликт картины в целом. Фильм Муратовой о том, что мы часто отказываем другим в праве на сложный эмоциональный и интеллектуальный мир, в то время как сложность своего внутреннего мира склонны преувеличивать. Героиня фильма, которую играет К. Муратова, настолько увлечена своей исполкомовской работой и своей душевной драмой, что ей не приходит в голову предположить нечто подобное в молчаливой деревенской девушке, нанятой ею в домработницы. Традиционная тема русского кинематографа, затронутая еще в фильме Е. Бауэра «Немые свидетели» (1914), – барское отношение к челяди – в фильме Муратовой преломилась в драме домработницы (Н. Русланова), в глубину чувства которой не способны поверить хозяйка дома и ее муж. Сцена, снятая со дна кастрюли, с точки зрения «немых свидетелей» семенной жизни героев, приобретает для нас качество нового, художественно осмысленного видения именно потому, что эта точка зрения подготовлена всей структурой отношении между персонажами фильма.
Другой пример. В фильме Б. Уайлдера «Бульвар заходящего солнца» («Сансет бульвар», 1950) рассказ ведется от первого лица; мы слышим закадровый голос и с удивлением узнаем, что рассказчик – человек, который только что убит, и что он рассказывает нам историю своего убийства. Этот закадровый голос даст режиссеру право на дополнительные, не принятые в голливудском кинематографе 1950-х годов точки зрения. И действительно, уже в первых кадрах мы видим столпившихся у края бассейна полицейских и журналистов, снятых из-под воды. Такая точка зрения кажется зрителю вполне естественной: если мы только что услышали, что нам о себе рассказывает утопленник, субъективный взгляд со дна бассейна нам тем более не представится странным.
Сложнее встроены в драматургический каркас фильма подводные съемки в картине С. Спилберга «Челюсти» (США, 1975). В фильме рассказывается о гигантской акуле, пожирающей людей. Однако по законам повествования в фильмах ужасов акула-людоед предстает перед зрителем не сразу (лишь в середине фильма мы замечаем то плавник, то неясный силуэт; в полный рост это страшное существо нам показывают только в финальной сцене единоборства). Сначала мы узнаем об исчезновении ночной купальщицы, затем до нас доходят смутные предположения и слухи. Примерно минуте на двадцатой фильма, когда зритель уже достаточно подготовлен, режиссер вставляет в повествование большой эпизод, беззаботный по настроению и, казалось бы, не имеющий непосредственного отношения к сюжету. Это виды океанского пляжа в воскресенье, похожие скорее на рекламный киноролик, чем на игровую картину. Мы видим солнечный берег, а в воде – пеструю толпу купальщиков. Но, конечно, настроение публики на пляже зрителям не передастся. Камера Спилберга незаметно меняет точки зрения – сначала с берега мы переносимся в гущу купающихся. Напряжение зрителя возрастает: мы видим головы пловцов, видим детей на надувных матрацах, но подводная часть от нашего взгляда скрыта, и ощущение опасности для нас сосредоточивается там. Затем режиссер выхватывает из толпы купальщиков отдельные фигуры: мальчика с мячом, заплывшую подальше девушку, толстяка. Но самое сильное средство Спилберг припас напоследок. Камера вдруг начинает чередовать точки зрения – как бы ненароком она то уходит под воду, то, наподобие поплавка, выныривает на поверхность. И если прежде мы опасались, что ни о чем не подозревающие люди подвергнутся кровавому нападению снизу, из невидимой глубины, то теперь источник страха у нас другой: всякое погружение под воду внушает опасения, что наш взгляд совпадает с точкой зрения акулы. Вид снизу людей, перебирающих ногами в голубой воде, и медленное движение камеры, маневрирующей между купальщиками, способствует ощущению почти физической жути – и это при том, что никаких признаков присутствия чудовища и даже ясных указаний на то, что оно обретается поблизости, авторы фильма нам не дают.
Точка зрения и искаженное ви?дение
Выше мы говорили о тех случаях, когда субъективная точка зрения определялась особым положением камеры и се движением. Между тем в языке кино мы встречаем много случаев оптической передачи субъективного видения. Речь идет о свойствах изображения, имитирующих уже не столько точку зрения персонажа, сколько аномалии в его зрительном восприятии действительности (ил. 18). Уже в 1906 году Э.С. Портер в фильме «Сон поклонника виски» для передачи искаженного видения пьяного героя применил двойную экспозицию – просвечивающиеся одна через другую, покачивающиеся и раздваивающиеся картины городской улицы. Похожим образом (но, конечно, разнообразя приемы и проявляя все новую изобретательность) операторы передавали головокружение, гипноз, обморок, любовное влечение и другие состояния психики, о которых принято думать как о факторах, искажающих нормальную картину мира. Так, в одном американском фильме, когда герой приходил в ярость, все предметы погружались в розовую дымку. Примеры оптической деформации кадра хотя и разнообразны по приемам, однако не слишком различаются по своим функциям.
18. В фильме А. Ганса «Безумие доктора Тюба» (1915) деформирующая оптика призвана изобразить метаморфозы, происходящие с персонажами под воздействием чудесного порошка. Однако режиссера поджидала неудача: деформацию изображения зритель склонен воспринимать не как метаморфозу окружающего нас мира, а как искажение зрения, не как свойство объекта, а как свойство восприятия этого объекта
Из способов передачи искаженного зрения наиболее интересен так называемый прием мягкого фокуса. Это случаи, когда изображение теряет резкость, приобретает нечеткие, неясные очертания. Прием этот важен для языка кино именно потому, что его роль не сводится только к одному – передаче субъективного восприятия. Мягкий, туманный рисунок фигур, лиц, предметов представляет собой самостоятельный визуальный мотив, и оператор вместе с режиссером может добиться того, чтобы противопоставление четкого и нечеткого изображений сделалось не только иллюстрацией к тому или иному психическому состоянию персонажа, но и генератором более глубокого художественного смысла.
Если говорить не о фильмах, а о неосуществленных замыслах, то одним из первых в истории кино на драматургические ресурсы нечеткого изображения обратил внимание русский поэт-символист Ф. Сологуб. В его сценарии «Барышня Лиза» (1918) рассказывается о любви девушки и молодого человека. Молодой человек, поборник передовых идей (действие происходит в начале XIX века), оставляет Лизу, увидев, что ее девушки-крепостные портят себе глаза, сидя за хозяйским вышиванием при лучинах. Чтобы искупить свою вину, Лиза дает обет – до возвращения возлюбленного самой вышить розами большое полотно. По замыслу Сологуба, чем краше узор из роз, тем слабее становятся у Лизы глаза. Наконец полотно готово, а молодой человек как раз возвращается из-за границы. В указаниях режиссеру Сологуб писал: «… желательно показать ослабление зрения в натруженных работою Лизиных глазах. Для этого, мне кажется, пейзаж следует снимать не в фокусе, чтобы очертания предметов были расплывчаты. Что эта расплывчатость очертаний зависит не от случайностей съемки и не от ненастной погоды, может быть подчеркнуто отчетливым пейзажем до появления Лизы».
Финал фильма задуман как сложная кинематографическая игра. Противопоставлены четыре точки зрения. Во-первых, это картина прошлого, встающая перед глазами Алексиса, – он «воображает Лизу легкомысленной, веселой шалуньей и своевольницей, и вспоминает свои встречи с ней здесь же, на мостике», и совсем другая картина, открывавшаяся его глазам при первой встрече: «Перед ним стоит с глазами, полными слез, стройная, печальная девушка, лицо которой неизъяснимо трогательно и прекрасно». Во-вторых, это четкий образ возлюбленного, встающий перед мысленным взором Лизы («смотрит вокруг, – и ясный день туманен, и все предметы словно скрыты легкой сетью. Но глазами души она видит лучше, чем глазами тела…»), и его настоящий облик, который полуслепая девушка едва узнает («…перед нею плывет туман, сквозь который она различает только лицо»). Кинематографические категории четкости и нечеткости Сологуб попытался наложить на литературные – столкнув таким образом зрение истинное («глаза души») и внешнее («глаза тела»).
Нерезкое изображение только тогда становится полноценным элементом киноязыка, когда оно вступает в игру подвижных, динамических смысловых отношений. Когда же прием мягкого фокуса неподвижно закреплен за какой-то условной субъективной точкой зрения – неважно, призван ли он выражать состояние пьяного или человека, с трудом сдерживающего слезы, – то такой прием, как это ни парадоксально, воспринимается нами как противоречащий природе киноязыка. Язык кино, как и язык искусства в целом, – не набор состояний, а система отношений. В фильме Джозефа фон Штернберга «Доки Нью-Йорка» (1928) молодая женщина, чтобы скрыть слезы разлуки, берется за штопку. Крупный план пальцев – но иголка с ниткой не могут найти друг друга. Изображение снято не в фокусе – блестящая игла сквозь слезы слегка люминисцирует. Но для зрителя фильма этот кадр – не навязанная извне иллюстрация того, что происходит в душе героини. Неясность очертаний – пластический мотив, заданный фон Штернбергом с самого начала картины. Героиня фильма впервые предстает зрителю в тумане, и этот портовый туман скоро становится лейтмотивом драмы. К сцене шитья зритель подходит подготовленным, и тем острее воздействует кадр, где знакомая неясность очертаний вдруг предстает в новом значении – слез. Произошла как бы конденсация лейтмотива. Вместо простого разграничения точек зрения – вот объективная, а вот субъективная, – перед нами взаимное отражение внешнего во внутреннем, мира в человеке.
И действительно, разграничение объективного и субъективного, внутренней и внешней точек зрения в языке кино чрезвычайно подвижно и неопределимо. Сама эта неопределимость, взаимоперетекаемость точек зрения – одна из существенных черт киноязыка и, возможно, один из секретов искусства вообще. Когда был задуман эпизод похорон матроса на одесском молу в фильме С. М. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» (1925), ассистент режиссера, впоследствии известный актер М. Штраух, писал жене в Москву: «Потом хочет все это дать снятым немного не в фокусе, а после того, как призывает к восстанию бундовка, то уже все резко в фокусе! Фотографию, и ту он хочет заставить играть!» Через двадцать дней замысел несколько изменился (сменился и оператор – вместо оператора хорошей дореволюционной выучки был поставлен экспериментатор Э. Тиссэ). Виды одесского порта в час траура решили снимать не внефокусным методом, а сквозь туман. То есть замысел несколько сместился с позиции субъективной передачи траура, но, как видно из нового письма Штрауха, мотив слез из замысла не исчез: «Сейчас Тиссэ, несмотря на туман, поехал снимать в порт “траурные куски”, о которых я тебе писал: “сцена с убитым матросом”. Очертания всего получатся нерезкие и даже дрожащие; так видишь все предметы, когда глаза полны слез».
Однако, когда туман был снят, Эйзенштейн смонтировал из него эпизод, в котором нет ни признаков взгляда «сквозь слезы», ни признаков субъективного видения вообще. Позднее сам режиссер так описывал эмоциональную тональность этой сцены: «В “Броненосце «Потемкине»” перед кульминационной сценой “Плач над трупом Вакулинчука” были вмонтированы знаменитые “туманы” – ряд кадров, где в медленном движении тяжелого тумана над водой, в выступающих из мглы черных силуэтах кораблей рождалось ощущение тишины и тревоги, а в кадрах, где лучи солнца начинают пробиваться сквозь пелену туманов, – ожидание и надежда». Тогда как в «Доках Нью-Йорка» пластический мотив – туман – сгустился до состояния сюжетного, в «Броненосце “Потемкине”» произошло обратное: сюжетный элемент – слезы – на пути от замысла к реализации преобразился в пластический мотив.
Кадр
В наших предыдущих рассуждениях мы иногда пользовались словом «кадр», не уточняя, что это значит. Обычно о кадре говорят в трех значениях. «Кадр из фильма» обычно обозначает статичный момент, зафиксированный на пленке. На экране он занимает
/
секунды, и поэтому увидеть такой кадр можно только в аппаратном помещении кинотеатра или на кинофабрике. Для этого следует извлечь пленку из проектора и рассмотреть ее на свет. Иногда «кадром из фильма» называют фотографию в журнале или на витрине кинотеатра.
Поскольку скорость прохождения пленки через проектор автоматически задана, кадр в означенном выше смысле является единицей кинотехники, а не киноязыка. Правда, в словарь языка кино входит понятие «стоп-кадр». Стоп-кадр имитирует впечатление, будто пленка в проекторе остановилась. Однако, когда такая поломка случается на самом деле, кинопленка не выдерживает температуры проекционной лампы и расползается. Деформация изображения, которая в таких случаях происходит, в истории киноискусства изредка тоже использовалась в художественных целях, например, шведским режиссером И. Бергманом. Но, конечно, возгорание пленки здесь тоже имитировалось – мультипликационным способом. Эту мистификацию изобрел не Бергман. В 1912 году русский оператор и мультипликатор В. Старевич разыграл таким образом своих коллег-кинематографистов. В зале поднялась паника – во времена немого кино пленка не расползалась, а вспыхивала и горела, как нынешние мячики для пинг-понга.
Когда мы говорим «кадр фильма», мы имеем в виду не «кадр из фильма», а нечто другое. Кадр фильма – непрерывный участок фильма, состоящий из нескольких «кадров из фильма». Правильнее было бы сказать «из одного или нескольких», поскольку в истории кино бывали случаи, когда длина кадра доводилась до минимума и изображение исчезало с экрана, не успев появиться. В 1960-е годы в американском и европейском киноавангарде существовал такой жанр – «фильм-дневник». Автор такого фильма ходил повсюду с небольшой кинокамерой и, когда ему хотелось, фиксировал на пленке окружающее, но фиксировал в особом режиме, позволяющем запечатлеться одному-единственному изображению. В результате получался своеобразный конспект жизни, предельно компактный. Когда такой фильм проецируется на экран, зрители (особенно не привычные к такому кино) мало что видят, кроме мелькания, но сам автор улавливал отдельные события в этой пульсации мгновенных впечатлений. Чем больше лет велся такой дневник, тем с большим правом режиссер говорил словами старых романов: «За минуту перед моим внутренним взором пронеслась вся жизнь».
Кадр максимальной длины ограничен только запасом пленки в съемочном аппарате. Здесь рекорд тоже принадлежит кинематографу авангарда[19 - Авангардом в кино и других искусствах называют направление, избегающее общепринятых методов творчества и экспериментирующее с материалом и техническими средствами данного вида искусства.] и исчисляется в часах.
Между этими полюсами колеблется длина кадров привычных нам фильмов. Этот параметр киноязыка свободен. Однако нельзя сказать, что длина кадра принадлежит к самым активным факторам порождения художественного смысла. Длительность кадра зритель начинает ощущать только тогда, когда кадр оказывается чрезмерно длинным или чрезмерно коротким, то есть в тот момент, когда он начинает его раздражать. Во всех остальных случаях мы считаем длину кадра производной от других, более содержательных параметров. Мы редко говорим «кадр длинноват», чаще в таких случаях указывают на вялое действие. Режиссеры, ориентированные на «классический» (общепринятый, выверенный, драматургически ясный) язык кино, избегают и слишком коротких кадров. В одном из интервью американский режиссер П. Богданович объяснил: «Я выбираю длину кадра прямо на площадке. Я никогда не остановлю оператора, если актер еще держит сцену – какой бы короткой она ни мыслилась мне как сценаристу». Другой американец, С. де Милль, говорил, что в работе с актером главное – вовремя сказать «стоп». И в том и в другом суждении длина кадра оценивается не как самостоятельный художественный фактор, а как показатель мастерства, атрибут владения режиссерским ремеслом.
Именно поэтому только очень смелые и безоглядные художники решаются поставить во главу угла своей эстетики фактор продолжительности кадра – строить отношения между характером действия и длительностью показа не по принципу гармонии, а по контрасту. Например, классический кинематограф приучил нас к мысли, что чем меньше в кадре действия, тем кадр должен быть короче. Но если мы вспомним начало фильма японского режиссера А. Куросавы «Тень воина» (1980), где в течение долгих минут группа самураев неподвижно сидит лицом к зрителю, или знаменитый по своей продолжительности кадр из финала фильма «Профессия: репортер» (1975) М. Антониони (оба фильма шли в советском прокате), то поймем, что оба режиссера это наше предвзятое мнение оспаривают. Антониони уже при съемках своего первого фильма сформулировал принцип расхождения между длиной кадра и продолжительностью сцены в драматургическом понимании этого слога: «… когда во время первой съемки я залез на операторскую тележку, чтобы следить за игрой актеров, я увидел, что вовсе не обязательно останавливаться в каком-то определенном месте сцены, и продолжал снимать еще некоторое время. Я не выключал камеру даже после того, как написанная сцена была сыграна, и я чувствовал, что лучший способ передать мысли актеров, их душевное состояние – это продолжать снимать их. Отсюда длинные кадры, бесконечные панорамы и т. д. <…> Я снимал актера, который не знал, что ему делать, и эти моменты бездеятельности и растерянности оказались очень удачными. Во всяком случае, они были невероятно искренни».
Кадр как рамка
Мы познакомились с двумя значениями слова «кадр»: мельчайший изобразительный элемент на пленке и сегмент фильма во времени. Но что мы подразумеваем, когда говорим, что картина продолжается, но кадр уже другой? Третьим значением слова «кадр» будет: сегмент фильма в пространстве. Из окружающего нас пространства камера выхватывает прямоугольник, который мы называем «кадром». Когда оператор говорит «взять кадр» или когда зритель шепчет соседу «какой кадр!», они имеют в виду именно это значение (см. ил. 19).
19. Необходимость постоянно учитывать третье значение термина «кадр» породила специфический жест фотографов и режиссеров
Четырехугольник кадра значительно уже поля нашего зрения. Уже поэтому кадр делит пространство на две зоны: видимую и невидимую. Когда в кино мы чего-то не видим, это не значит, что оно для нас не существует. Язык кино не мог бы функционировать, если бы мы считали, что изображенное в кадре существует, лишь пока кадр не исчез с экрана. Когда в фильмах Гриффита мы оставляем героя лежать связанным на полу, а сами переносимся в другое место, мы продолжаем опасаться за его судьбу. Точно так же, когда нам показывают одного собеседника, мы ощущаем за кадром присутствие другого, невидимого. Невидимого собеседника нам не обязательно знать в лицо. Не только память, но и воображение помогает заполнить закадровое пространство. В фильме Ф. Борзеджа «Желание» (США, 1936) чуть ли не и первом кадре мы видим героя в кабинете начальника. Размахивая руками, со страстью в голосе герой доказывает начальнику, как долго он не был в отпуске. В следующем кадре мы видим пустое кресло: пользуясь отсутствием хозяина кабинета, герой только репетировал тираду. Здесь удивительно даже не то, что мы поверили в существование закадрового персонажа, а то, насколько ясно представили себе его возраст, комплекцию, выражение лица. Этот пример – крайний (и, по сути дела, нехитрый по своему замыслу) случай, но он хорошо показывает, что невидимое пространство за рамкой кадра является своего рода полями, на которых свободное зрительское воображение дорисовывает начатое режиссером.