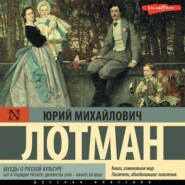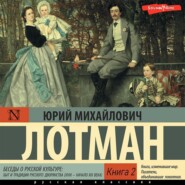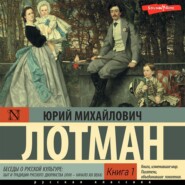По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Существующие правила действовали не автоматически, но допускали широкую вариативность относительно того, за что давались награды. Орден св. Андрея Первозванного, к примеру, мог быть получен и за военные, и за штатские заслуги. У Гоголя был замысел комедии «Владимир III степени», в которой чиновник, сойдя с ума, решил, что он – Владимирский орден. Тема человека, обменявшего, по мысли Гоголя, все человечески ценное на безумную фикцию, потребовала именно Владимирского ордена.
Особняком стоял орден св. Георгия. Во-первых, Георгиевская звезда I класса носилась выше других, уступая только св. Андрею Первозванному; во-вторых, Георгиевский крест никогда нельзя было снимать. В-третьих, Георгий давался только военным и преимущественно за боевые заслуги (за выслугу лет – 25 лет в офицерском чине или 18 кампаний во флоте – IV класс). Так, например, за войну 1812 года Георгия I степени получил только один человек – Кутузов, в 1813–1814 годах – еще один – Барклай де Толли, а позже – Л. Л. Беннигсен. Александр I лишь один раз (под Аустерлицем) участвовал в бою и имел Георгия низшей – IV степени. Если св. Андрей Первозванный давался коронованным особам и членам царской фамилии автоматически, то Георгия всегда надо было заслужить. Только один царь – Александр II – имел удивительную смелость сам на себя возложить Георгия I степени, хотя никаких боевых заслуг у него не было. В качестве предлога был использован юбилей ордена[28 - До этого орден был возложен на Екатерину II как на его учредительницу.].
В системе отличий в России XVIII – начала XIX века ордена в целом занимали несколько особое место. С одной стороны, они, как и чины, не были «вещью настоящей», по словам гоголевского Поприщина. Условность государственной структуры выступала здесь особенно заметно. Но с другой стороны, эта же черта ордена придавала ему ценность награды за бескорыстное служение. И если награждения статских чиновников могли свидетельствовать лишь о расположении начальства, то орден св. Георгия-Победоносца или св. Владимира с мечами сохраняли ценность в глазах общества, свидетельствуя о патриотическом служении.
В целом же орден как таковой вызывал к себе двойственное отношение. Поэтому в офицерской среде был принят вопрос: за что орден? Характер ответа определял, в какой мере награда отражает реальные заслуги. Возможность быть знаком патриотических заслуг отличала орден от чина (особенно статского или придворного), прямо отражавшего лишь место человека в государственной бюрократии.
Кроме системы орденов, ослаблявшей тотальную регламентацию государственной жизни, мы можем назвать иерархию, в определенном смысле противостоящую чинам, образованную системой знатности. Знатность русских бояр – понятие допетровской эпохи. Усиление государственности в начале XVIII века привело, как мы видели, к конфликту между знатностью и службой. Но и само понятие знати не было постоянным.
С одной стороны, многие старинные боярские роды исчезали – вымирали или окончательно разорялись, с другой – усиливавшееся государство укрепляло себя «новой» знатью[29 - Пушкин писал в «Моей родословной»:У нас нова рожденьем знатность,И чем новее, тем знатней.<…>И не якшаюсь с новой знатью.Само выражение «новая знать», с западноевропейской точки зрения, было парадоксальным.].
В окружении Петра I были люди, относившие свое происхождение к самым старинным боярским родам, например, Борис Петрович Шереметев (Пушкин подчеркнул его родовитость, назвав Шереметева – единственного во всем перечислении «птенцов гнезда Петрова» в «Полтаве» – «благородным»). Однако в пестром кругу русской знати XVIII века можно было встретить и тех, кто, по определению Пушкина, «торговал блинами» (А. Меншиков) или «пел с придворными дьячками» (А. Разумовский), и тех, кого мутная волна дворцовых переворотов вынесла на вершины новой аристократии. Тот же Пушкин, но уже в тоне торжественном, а не ироническом, назвал Меншикова «счастья баловень безродный, // Полудержавный властелин». Однако сущность пушкинских слов от этого не менялась: новая знать происходила из людей «случайных», часто темных. Надо было дать ей место среди знати традиционной.
Петр I пробовал решить этот вопрос, введя в России прежде отсутствовавшие в ней европейские титулы. Так появилось звание графа. Так как традиционного графства в России не было, первоначально этот титул именовался «граф Священной Римской Империи», и получали его от императора Священной Римской Империи. При Петре все новое было в моде – и графство ценилось выше княжеского титула, но позже титул князя получил дополнительный блеск подлинности в связи с возродившимся интересом к традициям допетровской Руси. Впрочем, к концу XVIII века сложилось уже и «новое княжество». Связи его с подлинными русскими княжескими родами отсутствовали или были фиктивными. Так, например, Орловы – типичные выскочки Екатерининской эпохи – создали своему роду фиктивную родословную.
Помнить, когда появились и откуда произошли те или иные русские роды, помнить их связи между собой, особенно родовые отношения своей семьи, считалось в дворянском кругу обязательным. Екатерининский вельможа граф А. Н. Самойлов любил повторять: «Родню умей счесть и отдай ей честь». Увеличение при Петре и ближайших его наследниках числа «случайных» людей возбудило интерес к древности рода. Древность начали вновь ценить, собирать сохранившиеся родовые документы (не всегда достоверные).
Имелось в России и звание барона. Однако это звание (за исключением баронов прибалтийских) не вызывало особого уважения. Русский барон – как правило, финансист, а финансовая служба не считалась истинно дворянской.
Наконец, в качестве экзотических, попадались у русской знати и иностранные титулы. Так, один из потомков крестьянина Строганова купил себе итальянский титул «графа Сен-Донато».
Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с 1840-х годов играть все большую роль в русской культуре. Чиновная лестница также противоречила порой знатности: знатный вельможа, потомок богатого рода, мог служить не старательно или же вообще выйти в отставку рано (служба, хотя бы краткая, все-таки была обязательна). Мог он, как уже говорилось, и служить фиктивно где-нибудь в придворной службе или, взяв отпуск, уехать за границу. Такой человек зачастую не был заинтересован в чинах (он мог получать чины быстро, но мог и «застрять» на ступенях чиновничьей лестницы). А обладающий дарованиями, потребными для бюрократической службы, чиновник мог «выбиться в люди», получить дворянство. Поэтому в кругах поместного дворянства, зачастую родовитого, считалось хорошим тоном демонстрировать презрение к чину.
В фундаменте той концепции службы[30 - Ср. позднейшее ироническое истолкование семантики слова «служить» в речи дворянина и разночинца-поповича: «„Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома – Рязанов. Да, теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили“. „Что же вы с ним, всенощную или обедню служили?“ – спросил Рязанов… „То есть как?“ – „Я не знаю, как. Должно быть, соборне. А то как же еще?“ Посредник с недоумением смотрел на Рязанова: „Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?“ – „Нет; он больше в селах пресвитером служил“» (Слепцов В. А. Соч. в 2-х т. М., 1957, т. 2, с. 58).], которая была заложена в Петровскую эпоху, заключено было противоречие: служба из чести[31 - Известная наклонность употреблять высокие слова в сниженно-иронических значениях коснулась позже и выражения «служить из чести». Оно начало обозначать трактирную прислугу, не получающую от хозяина жалованья и служащую за чаевые. Ср. выражение в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина, принадлежащее кухарке в публичном доме: «Из чести лишь одной я в доме здесь служу» (Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 670).] и служба как государственная (государева) повинность. Развитие крепостного права изменило само понятие слова «помещик». Это был уже не условный держатель государевой земли, а абсолютный и наследственный собственник как земли, так и сидящих на ней крестьян. Память о прошлом еще жила, и Иван Посошков в начале XVIII века мотивировал свое требование государственного ограничения власти помещиков тем, что они – временные владельцы государственной собственности и поэтому не брегут о земле и крестьянах как государственной собственности, из которой они стремятся хищнически выжать для себя максимальную пользу. Однако исторический ветер дул в противоположную сторону: власть помещика все более расширялась, и в последней трети XVIII века государство практически устранилось от вмешательства в отношения между помещиком и крестьянином. Даже закон, который позволял помещиков, уличенных в особой жестокости обращения с крепостными, брать в опеку, а управление поместьем передавать опекунам, требовал обязательного участия в этом деле дворянского предводителя, то есть выборного защитника интересов дворянства. Нельзя сказать, чтобы русские цари, начиная с Екатерины II и включая Павла I, Александра и Николая Павловичей, не видели опасности этой ситуации и не обдумывали мер по ограничению крепостного права. При этом ими двигало не только чувство страха перед крестьянскими восстаниями или экономические соображения, но и сознание опасности чрезмерного усиления дворянства как независимой силы. Особенно это можно сказать о Павле и Николае I. Но общая установка на то, чтобы «все изменить, ничего не меняя», определила робость и бесплодность этих попыток.
По мере усиления независимости дворянства оно начало все более тяготиться двумя основными принципами петровской концепции службы: обязательностью ее и возможностью для недворянина становиться дворянином по чину и службе. Оба эти принципа подвергались уже со второй трети XVIII века энергичным атакам. Еще в петровское время И. Посошков, утверждая, что дворяне царю «непрямые слуги», писал, что ему случалось слышать выражение: «Дай-де Бог великому государю служить, а сабли б из ножон не вынимать»[32 - Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве…, с. 268.]. Но это были, еще по выражению Петра I, «тунеядцы», уклонявшиеся от службы. В программное требование свобода служить или не служить оформилась позже. Отделение дворянских привилегий от обязательной личной службы и утверждение, что самый факт принадлежности к сословию дает право на душе- и землевладение, было оформлено двумя указами: указом Петра III от 20 февраля 1762 года («Манифест о вольности дворянства») и Екатерины II от 21 апреля 1785 года («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства»).
По этим документам дарование дворянам сословных прав: освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право «беспрепятственно ездить в чужие край» и «вступать в службы прочих европейских нам союзных держав» – получало и более широкую трактовку. В Грамоте Екатерины II содержался пункт 17-й, где писалось: «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу»[33 - Российское законодательство X–XX веков. В 9-ти т. М., 1987, т. 5, с. 28.]. При этом дворянину гарантировалась неприкосновенность «чести, жизни и имения» (пункты 9—11-й). Следует напомнить, что в теориях просветителей XVIII века именно защита чести, жизни и имения была основой образования общественного договора и одновременно формулой неотъемлемых прав человека.
Так создалась своеобразная социокультурная ситуация: дворянство окончательно закрепилось как господствующее сословие. Более того, именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 декабря 1760 года (дававшего помещикам право ссылать крестьян в Сибирь на поселение «с зачетом их в рекруты») и 17 января 1765 года (расширившего это право до возможности помещикам по собственному произволу отправлять неугодных крепостных на каторгу) были практически низведены до степени рабов («крестьянин в законе мертв», – писал Радищев), дворянство в России получило «вольность и свободу». Культурный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали идеал прав человека.
Позволим себе одну параллель. Античная демократия классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных граждан. Странно было бы приукрашивать рабовладельческий строй и предполагать, что он не был связан с чудовищными злоупотреблениями. Но не менее странно было бы, глядя на статуи Фидия и Праксителя, читая Софокла или Эврипида, все время приговаривать: «Это все за счет труда рабов». Более того, даже сочинения убежденного сторонника и идеолога рабства Платона не только не исчерпываются «рабовладельческой идеологией», но, бесспорно, являются одной из основ всей европейской цивилизации. Рабовладельческое античное общество создало общечеловеческую культуру. У нас нет причин забывать, во что обошлось России превращение дворянства в замкнутое господствующее сословие, но нет причин забывать и о том, что дала русской и европейской цивилизации русская дворянская культура XVIII – начала XIX века.
Завоевав господствующее положение, дворянство стремилось ослабить свою зависимость от правительства, а следовательно, и от принципов «регулярности» и чиновной иерархии.
В работах некоторых историков высказывалось утверждение, что в результате освобождения дворянства от обязательной службы произошел чуть ли не массовый отлив из нее дворян: «Дворянство, давно тяготившееся службой, всеми способами отлынивающее от нее, всячески добивалось освобождения от этой повинности». В Грамоте 21 апреля 1785 года они видят лишь «установление вольности на безделье»[34 - Там же, т. 5, с. 15–16.]. Такое объяснение представляется упрощенным. Тем более сомнительным кажется утверждение, что в результате Грамоты о вольности дворянства и якобы бегства дворян со службы правительство вынуждено было заполнять должности разночинцами, становившимися личными дворянами. Тезис этот базируется на смешении гражданской службы с военной. Никакого «бегства» с последней как массового явления обнаружить в документах эпохи невозможно. Более того, несмотря на то, что Россия в течение всего XVIII века вела активные военные действия (что, конечно, вызывало высокую убыль офицерских чинов, особенно обер- и штаб-офицеров), никакой нехватки офицерского состава как серьезной армейской проблемы не было. Мы знаем ряд случаев, когда желающие отправлялись в действующую армию сверхштатно, так как вакансии были заполнены. В обширном списке пушкинских знакомых, составленном Л. А. Черейским и дающем весьма представительную общественную выборку, среди родившихся в конце 1790-х годов мы не находим ни одного неслужащего и, следовательно, не имеющего чина дворянина. То же можно сказать и о другом представительном списке – «Алфавите декабристов», – составленном для Николая I перечне всех лиц, в какой-либо мере привлекавшихся к дознанию по делу декабристов или хотя бы упоминавшихся в показаниях. И там нет ни одного дворянина, который бы полностью реализовал свое право никогда не служить. Для доказательства «бегства» дворян со службы приводится такой расчет: «К концу Северной войны среди офицеров русской армии было около 14 % выходцев из недворянских сословий. В 1816 году личные дворяне, то есть вчерашние разночинцы, составляли 44 % всего дворянства империи»[35 - Там же, т. 5, с. 16, со ссылкой на: Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны. – В кн.: Россия в период реформ Петра I. М., 1973, с. 171; Буганов В. И, Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы. М., 1980, с. 241.]. Однако в этом примере сопоставляются данные по армии с общим числом всех дворян в государстве, что, безусловно, некорректно. Конечно, число коллежских асессоров или сенатских секретарей, таких, как герой главы «Зайцево» из «Путешествия из Петербурга в Москву», дослужившихся до личного дворянства, было очень велико, особенно в XIX веке, когда бюрократическая машина быстро росла. Но важнее другое: 1816 год – время окончания десятилетия наполеоновских войн, которые буквально выкосили целое поколение молодых офицеров. Все, кто занимался биографиями людей на рубеже XVIII и XIX веков, знают, как мало в конце 1810-х, в 1820-е годы людей второй половины 1780-х – начала 1790-х годов рождения. После тех, кто родился в начале 1780-х годов, сразу идут родившиеся в 1795–1799 годах. Естественно, что в этих условиях производство из числа заслуженных унтер-офицеров в обер-офицерские чины было намного выше среднего для рассматриваемой эпохи.
Дворянство оставалось служилым сословием. Но само понятие службы сделалось сложно противоречивым. В нем можно различить борьбу государственно-уставных и семейственно-корпоративных тенденций. Последние существенно усложняли структуру реальной жизни дворянского сословия XVIII – начала XIX века и расшатывали неподвижность бюрократического мира. Корпоративные традиции особенно давали себя чувствовать в гвардии.
Гвардия – привилегированные и приближенные к трону полки – возникла при Петре I. Из «потешных» полков молодого царя в конце XVII века были сформированы два гвардейских, получивших наименования по подмосковным селам, в которых они «квартировались»: Преображенский и Семеновский. Преображенский полк в дальнейшем считался первым полком империи. Первый батальон его всегда квартировал на Миллионной, в непосредственной близости от Зимнего дворца. Оба полка получили боевое крещение под Нарвой в 1700 году, обнаружив высокую воинскую стойкость: задержав на три часа наступление шведов, они дали возможность остальной армии отступить. Преображенский, Семеновский и образованный при Анне Иоанновне третий – Измайловский – полк составляли гвардейскую пехоту. Позже были организованы также гвардейские кавалерийские полки: лейб-гвардии конный полк (1730), лейб-гусары и лейб-казаки (1796), кавалергардский (1800), лейб-уланы (1809). Число гвардейских полков и подразделений расширялось. В 1813 г. возникла так называемая «молодая гвардия» (лейб-гренадерский, Павловский и др. полки). Служба в гвардии связана была с пребыванием в столице и выгодно отличалась от армейской: гвардия, как говорилось выше, давала преимущество на два класса по отношению к армии. А поскольку при выходе в отставку, при безупречной службе, человек, как правило, получал следующий чин, то, дослужившись в гвардии до капитана, он мог выйти в отставку в полковничьем чине или перейти в армию подполковником (служба в «молодой гвардии» давала преимущество в один чин).
Гвардия с самого начала своего возникновения играла активную роль в политической жизни, особенно в случаях столь частых в XVIII веке дворцовых переворотов. Елизавета, взойдя на престол, объявила себя полковником всех гвардейских полков, а первую роту преображенцев, сыгравшую свою роль в перевороте, провозгласила «лейб-кампанией» (то есть «лейб-ротой»), произвела всех ее солдат в дворянство и дала им гербы, в символике которых было запечатлено их участие в перевороте. Правда, в дальнейшем буйства лейб-кампанцев доставили правительству много забот. Служба в гвардии не была доходна – она требовала больших средств, но зато открывала хорошие карьерные виды, дорогу политическому честолюбию и авантюризму, столь типичному для XVIII века с его головокружительными взлетами и падениями «случайных» людей.
Гвардия аккумулировала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед. Так было в 1762 году, на важном рубеже русской истории, когда Екатерина II – тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна – свергла с престола своего мужа, Петра III, и воцарилась на престоле с помощью своего любовника Григория Орлова и «гвардейской буйной шайки».
Однако эти же гвардейцы, которые пьянствовали по кабакам и не знали, как расплатиться с долгами, став графами, князьями и получив огромные имения, сделались довольно заметными людьми в русской истории (так, Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл ряд очень важных сражений). Бывшие гвардейцы, став богатыми и влиятельными, сохранили дух гвардейского своеволия, соединив его со своеволием барским, и порой безоглядно нарушали бюрократические установления во имя корпоративных, семейных и других связей.
Как уже говорилось, Петр I хотел, чтобы чины, предусмотренные в Табели о рангах, давались за действительную службу и, как он полагал, отличали бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от имеющих реальные заслуги. Так, Петр установил, что прежде, чем получить первый офицерский чин, дворянин должен был длительное время прослужить солдатом. Однако жизнь вскоре начала очень легко обходить подобные установления. Отдельные случаи нарушений, умножаясь, превращались в освященный практикой обычай. Часто это делалось в гвардии.
Вспомним начало «Капитанской дочки». «Матушка, – сообщает герой пушкинской повести Гринев, – была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если б паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Так оно очень часто и делалось. Правда, для этого надо было иметь в столице заступника – родственника, богатого человека – или же просто дать взятку в полковую канцелярию. Человек, который таких возможностей не имел (например, поэт Г. Р. Державин), должен был прослужить весь положенный срок солдатом прежде, чем получить офицерский чин. Зато человек, имевший «защиту», действовал как родитель Гринева: младенца записывали в службу; он числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла. И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем – и другие чины, особенно при наличии «заступника». Жизнь сопротивлялась мертвящим бюрократическим принципам прежде всего в форме злоупотреблений (порой чудовищных). Казалось, что петровское государство надежно защитилось от всяких случайностей, от всякой «нерегулярности» системой законов, указов, приказов. Однако парадоксальным образом обилие правил обернулось хаосом. Законов издавалось исключительно много, и в этой путанице отменявших и уточнявших друг друга государственных установлений можно было лавировать. Более того: существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение. Например, в течение царствования Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещавший брать взятки, но поскольку закона, разрешающего брать взятки, никогда не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно знала, что закон этот исполняться не будет. Более того: она смотрела на взяточничество сквозь пальцы. Конечно, императрица могла и посмеяться над вельможами-взяточниками: так, Р. Воронцова она назвала Роман – большой карман, а другому подарила вязаный кошелек – для складывания взяток. Однако Екатерина прекрасно знала, что если убрать одного взяточника, то его место займет другой. Как-то она, с присущим ей трезвым цинизмом, сказала Державину, что генерал-губернатор, долго служивший, уже наворовался, а новый только еще начнет воровать.
Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось с ними, но, по существу, само же их и порождало. Сам Петр I рядом с Табелью о рангах породил принцип фаворитизма. Правда, при Петре принцип этот не имел еще такого злокачественного характера: любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями. Узнавая о незаконных действиях своих фаворитов, Петр мог их жестоко (хотя и «по-домашнему») наказать: даже «светлейший» Меншиков не раз испытывал тяжесть руки императора. Некоторые из них плохо кончили: близкий к императору П. Шафиров был приговорен за взятки к смертной казни, правда, замененной ссылкой. Но все же это были именно фавориты, и царь позволял им то, что по закону не должно было позволяться. Когда же в России началось «женское правление», фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине II некоторые из ее фаворитов, например Григорий Потемкин, были серьезными государственными деятелями, некоторые – просто развратными молодыми людьми. Одни из фаворитов были скромными, то есть довольствовались миллионными подарками и десятками тысяч крестьянских душ, как Дмитриев-Мамонов и Завадовский. Другие претендовали на государственные роли. Таков был Платон Зубов, человек безнравственный. Но воровали все…
Другим ограничивающим бюрократию средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы, она имела свои законы. Эти законы не умещались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, в XVIII веке, хотя Петр I, стремясь все упорядочить, хотел разделить людей по чинам, по классам, исключительно сильна была еще сила родства. Когда встречались два человека, первым делом было – счесться родными. И начинали выяснять: «Ваша бабушка – не сестра ли такого-то? А он ведь наш сосед», или: «Он ведь крестил у моего дедушки детей», или: «Он вместе с моим прадедушкой в полку служил». Все эти негласные связи оказывали на жизнь огромное влияние, и не всегда оно было негативным. Рассматривая культурную жизнь позднейших периодов, например 1840-х годов, мы можем сказать, что политические взгляды, принципы мировоззрения разводят даже друзей. А. Герцен с С. Аксаковым – многолетние друзья – встретились в Москве на улице, вышли из пролеток, обнялись и расстались на всю жизнь: они – враги. Но декабристов сближали не только идейные связи – почти все они были родственниками, составляли родственные гнезда (Муравьевы, Бестужевы и многие другие). В начале XIX века все еще казалось, что родственникам можно доверять, что люди, выросшие вместе, – соседи, однополчане – связаны надежно. Близость не идейная, а дружеская, человеческая оказывалась в достаточной степени сильной. Иногда это приводило к нарушению законов. Но иногда – создавало ту атмосферу доверия, противоречащую бюрократическим отношениям, которая делала дом (свой, своих родных и друзей) надежной крепостью, недоступной доносчику или шпиону.
Женский мир
Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII – начала XIX века. Но при этом, хотя мы все время говорили «человек», речь шла о мужчинах. Между тем женщина этой поры не только была включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала играть в ней все большую и большую роль. И женщина очень менялась.
Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи. С одной стороны, женщина, с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. В этом смысле характер женщины можно назвать одним из самых чутких барометров общественной жизни. С другой стороны, женский характер парадоксально реализует и прямо противоположные свойства. Женщина – жена и мать – в наибольшей степени связана с надысторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире отпечатков эпохи. Поэтому влияние женщины на облик эпохи в принципе противоречиво, гибко и динамично. Гибкость проявляется в разнообразии связей женского характера с эпохой.
Женское влияние редко рассматривается как самостоятельная историческая проблема. Если, говоря о XVIII – начале XIX века, историк нарисует образ Салтычихи, то, скорее всего, с целью охарактеризовать крепостнические нравы. То, что речь идет о женщине, выступит как случайность исторического процесса. Если же вопрос этот все-таки возникнет, то, как правило, исследователь исчерпает его общими замечаниями о неразвитости (малоразвитости) женщин в тот или иной удаленный от нас период, иногда упомянет о редких исключениях из этого правила.
Нас же будут интересовать как те особенности, которые эпоха накладывала на женский характер, так и те, которые женский характер придавал эпохе.
Разумеется, женский мир сильно отличался от мужского. Прежде всего тем, что он был выключен из сферы государственной службы. Женщины не служили, чинов не имели, хотя государство стремилось распространить чиновничий принцип и на них. В Табели о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке): «Насопротив того имеют все девицы, которых отцы в 1 ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5 ранге обретаются, а именно, ниже Генерал-майора, а выше Бригадира, и девицы, которых отцы во 2 ранге, над женами, которые в 6 ранге, то есть ниже Бригадира, а выше Полковника; а девицы, которых отцы в 3 ранге, над женами 7 ранга, то есть ниже Полковника, а выше Подполковника, и проч.»[36 - Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I, с. 186.]. Позже эти бюрократические ранги все более разрастались. При Анне и при Елизавете было установлено, дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какого – серебряное, какова должна быть ширина кружев и т. д. Появилось выражение «дама такого-то класса». Позже Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на Седьмой линии он любил даму XII класса.
Итак, чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца[37 - Только в придворной службе женщины сами имели чины. В Табели о рангах находим: «Дамы и девицы при дворе, действительно в чинах обретающиеся, имеют следующие ранги…» (Памятники русского права. Вып. 8, с. 186) – далее следовало их перечисление.]. В документах эпохи мы встречаем слова: «полковница», «статская советница», «тайная советница». Однако слова эти определяют не независимое положение самой женщины, а положение ее мужа (для девушки – отца). В комедии Д. Фонвизина «Бригадир» Бригадирша и Советница – это, соответственно, жены Бригадира и Советника.
В одном рассказе Н. Лескова говорится о привычке некоего иерарха играть со своими подчиненными, заставляя их отвечать ему стихами – «в рифму». Однажды во время прогулки он произнес:
Чертоги зрю монарши.
Спутник его ответил в рифму:
Погиб Фома от секретарши.
Современному читателю естественно понять слово «секретарша» как указание на должность или место службы женщины. Однако такое толкование в конце XVIII – начале XIX века было бы совершенно невозможным. Речь идет о жене секретаря.
Особняком стоял орден св. Георгия. Во-первых, Георгиевская звезда I класса носилась выше других, уступая только св. Андрею Первозванному; во-вторых, Георгиевский крест никогда нельзя было снимать. В-третьих, Георгий давался только военным и преимущественно за боевые заслуги (за выслугу лет – 25 лет в офицерском чине или 18 кампаний во флоте – IV класс). Так, например, за войну 1812 года Георгия I степени получил только один человек – Кутузов, в 1813–1814 годах – еще один – Барклай де Толли, а позже – Л. Л. Беннигсен. Александр I лишь один раз (под Аустерлицем) участвовал в бою и имел Георгия низшей – IV степени. Если св. Андрей Первозванный давался коронованным особам и членам царской фамилии автоматически, то Георгия всегда надо было заслужить. Только один царь – Александр II – имел удивительную смелость сам на себя возложить Георгия I степени, хотя никаких боевых заслуг у него не было. В качестве предлога был использован юбилей ордена[28 - До этого орден был возложен на Екатерину II как на его учредительницу.].
В системе отличий в России XVIII – начала XIX века ордена в целом занимали несколько особое место. С одной стороны, они, как и чины, не были «вещью настоящей», по словам гоголевского Поприщина. Условность государственной структуры выступала здесь особенно заметно. Но с другой стороны, эта же черта ордена придавала ему ценность награды за бескорыстное служение. И если награждения статских чиновников могли свидетельствовать лишь о расположении начальства, то орден св. Георгия-Победоносца или св. Владимира с мечами сохраняли ценность в глазах общества, свидетельствуя о патриотическом служении.
В целом же орден как таковой вызывал к себе двойственное отношение. Поэтому в офицерской среде был принят вопрос: за что орден? Характер ответа определял, в какой мере награда отражает реальные заслуги. Возможность быть знаком патриотических заслуг отличала орден от чина (особенно статского или придворного), прямо отражавшего лишь место человека в государственной бюрократии.
Кроме системы орденов, ослаблявшей тотальную регламентацию государственной жизни, мы можем назвать иерархию, в определенном смысле противостоящую чинам, образованную системой знатности. Знатность русских бояр – понятие допетровской эпохи. Усиление государственности в начале XVIII века привело, как мы видели, к конфликту между знатностью и службой. Но и само понятие знати не было постоянным.
С одной стороны, многие старинные боярские роды исчезали – вымирали или окончательно разорялись, с другой – усиливавшееся государство укрепляло себя «новой» знатью[29 - Пушкин писал в «Моей родословной»:У нас нова рожденьем знатность,И чем новее, тем знатней.<…>И не якшаюсь с новой знатью.Само выражение «новая знать», с западноевропейской точки зрения, было парадоксальным.].
В окружении Петра I были люди, относившие свое происхождение к самым старинным боярским родам, например, Борис Петрович Шереметев (Пушкин подчеркнул его родовитость, назвав Шереметева – единственного во всем перечислении «птенцов гнезда Петрова» в «Полтаве» – «благородным»). Однако в пестром кругу русской знати XVIII века можно было встретить и тех, кто, по определению Пушкина, «торговал блинами» (А. Меншиков) или «пел с придворными дьячками» (А. Разумовский), и тех, кого мутная волна дворцовых переворотов вынесла на вершины новой аристократии. Тот же Пушкин, но уже в тоне торжественном, а не ироническом, назвал Меншикова «счастья баловень безродный, // Полудержавный властелин». Однако сущность пушкинских слов от этого не менялась: новая знать происходила из людей «случайных», часто темных. Надо было дать ей место среди знати традиционной.
Петр I пробовал решить этот вопрос, введя в России прежде отсутствовавшие в ней европейские титулы. Так появилось звание графа. Так как традиционного графства в России не было, первоначально этот титул именовался «граф Священной Римской Империи», и получали его от императора Священной Римской Империи. При Петре все новое было в моде – и графство ценилось выше княжеского титула, но позже титул князя получил дополнительный блеск подлинности в связи с возродившимся интересом к традициям допетровской Руси. Впрочем, к концу XVIII века сложилось уже и «новое княжество». Связи его с подлинными русскими княжескими родами отсутствовали или были фиктивными. Так, например, Орловы – типичные выскочки Екатерининской эпохи – создали своему роду фиктивную родословную.
Помнить, когда появились и откуда произошли те или иные русские роды, помнить их связи между собой, особенно родовые отношения своей семьи, считалось в дворянском кругу обязательным. Екатерининский вельможа граф А. Н. Самойлов любил повторять: «Родню умей счесть и отдай ей честь». Увеличение при Петре и ближайших его наследниках числа «случайных» людей возбудило интерес к древности рода. Древность начали вновь ценить, собирать сохранившиеся родовые документы (не всегда достоверные).
Имелось в России и звание барона. Однако это звание (за исключением баронов прибалтийских) не вызывало особого уважения. Русский барон – как правило, финансист, а финансовая служба не считалась истинно дворянской.
Наконец, в качестве экзотических, попадались у русской знати и иностранные титулы. Так, один из потомков крестьянина Строганова купил себе итальянский титул «графа Сен-Донато».
Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с 1840-х годов играть все большую роль в русской культуре. Чиновная лестница также противоречила порой знатности: знатный вельможа, потомок богатого рода, мог служить не старательно или же вообще выйти в отставку рано (служба, хотя бы краткая, все-таки была обязательна). Мог он, как уже говорилось, и служить фиктивно где-нибудь в придворной службе или, взяв отпуск, уехать за границу. Такой человек зачастую не был заинтересован в чинах (он мог получать чины быстро, но мог и «застрять» на ступенях чиновничьей лестницы). А обладающий дарованиями, потребными для бюрократической службы, чиновник мог «выбиться в люди», получить дворянство. Поэтому в кругах поместного дворянства, зачастую родовитого, считалось хорошим тоном демонстрировать презрение к чину.
В фундаменте той концепции службы[30 - Ср. позднейшее ироническое истолкование семантики слова «служить» в речи дворянина и разночинца-поповича: «„Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома – Рязанов. Да, теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили“. „Что же вы с ним, всенощную или обедню служили?“ – спросил Рязанов… „То есть как?“ – „Я не знаю, как. Должно быть, соборне. А то как же еще?“ Посредник с недоумением смотрел на Рязанова: „Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?“ – „Нет; он больше в селах пресвитером служил“» (Слепцов В. А. Соч. в 2-х т. М., 1957, т. 2, с. 58).], которая была заложена в Петровскую эпоху, заключено было противоречие: служба из чести[31 - Известная наклонность употреблять высокие слова в сниженно-иронических значениях коснулась позже и выражения «служить из чести». Оно начало обозначать трактирную прислугу, не получающую от хозяина жалованья и служащую за чаевые. Ср. выражение в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина, принадлежащее кухарке в публичном доме: «Из чести лишь одной я в доме здесь служу» (Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 670).] и служба как государственная (государева) повинность. Развитие крепостного права изменило само понятие слова «помещик». Это был уже не условный держатель государевой земли, а абсолютный и наследственный собственник как земли, так и сидящих на ней крестьян. Память о прошлом еще жила, и Иван Посошков в начале XVIII века мотивировал свое требование государственного ограничения власти помещиков тем, что они – временные владельцы государственной собственности и поэтому не брегут о земле и крестьянах как государственной собственности, из которой они стремятся хищнически выжать для себя максимальную пользу. Однако исторический ветер дул в противоположную сторону: власть помещика все более расширялась, и в последней трети XVIII века государство практически устранилось от вмешательства в отношения между помещиком и крестьянином. Даже закон, который позволял помещиков, уличенных в особой жестокости обращения с крепостными, брать в опеку, а управление поместьем передавать опекунам, требовал обязательного участия в этом деле дворянского предводителя, то есть выборного защитника интересов дворянства. Нельзя сказать, чтобы русские цари, начиная с Екатерины II и включая Павла I, Александра и Николая Павловичей, не видели опасности этой ситуации и не обдумывали мер по ограничению крепостного права. При этом ими двигало не только чувство страха перед крестьянскими восстаниями или экономические соображения, но и сознание опасности чрезмерного усиления дворянства как независимой силы. Особенно это можно сказать о Павле и Николае I. Но общая установка на то, чтобы «все изменить, ничего не меняя», определила робость и бесплодность этих попыток.
По мере усиления независимости дворянства оно начало все более тяготиться двумя основными принципами петровской концепции службы: обязательностью ее и возможностью для недворянина становиться дворянином по чину и службе. Оба эти принципа подвергались уже со второй трети XVIII века энергичным атакам. Еще в петровское время И. Посошков, утверждая, что дворяне царю «непрямые слуги», писал, что ему случалось слышать выражение: «Дай-де Бог великому государю служить, а сабли б из ножон не вынимать»[32 - Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве…, с. 268.]. Но это были, еще по выражению Петра I, «тунеядцы», уклонявшиеся от службы. В программное требование свобода служить или не служить оформилась позже. Отделение дворянских привилегий от обязательной личной службы и утверждение, что самый факт принадлежности к сословию дает право на душе- и землевладение, было оформлено двумя указами: указом Петра III от 20 февраля 1762 года («Манифест о вольности дворянства») и Екатерины II от 21 апреля 1785 года («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства»).
По этим документам дарование дворянам сословных прав: освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право «беспрепятственно ездить в чужие край» и «вступать в службы прочих европейских нам союзных держав» – получало и более широкую трактовку. В Грамоте Екатерины II содержался пункт 17-й, где писалось: «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу»[33 - Российское законодательство X–XX веков. В 9-ти т. М., 1987, т. 5, с. 28.]. При этом дворянину гарантировалась неприкосновенность «чести, жизни и имения» (пункты 9—11-й). Следует напомнить, что в теориях просветителей XVIII века именно защита чести, жизни и имения была основой образования общественного договора и одновременно формулой неотъемлемых прав человека.
Так создалась своеобразная социокультурная ситуация: дворянство окончательно закрепилось как господствующее сословие. Более того, именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 декабря 1760 года (дававшего помещикам право ссылать крестьян в Сибирь на поселение «с зачетом их в рекруты») и 17 января 1765 года (расширившего это право до возможности помещикам по собственному произволу отправлять неугодных крепостных на каторгу) были практически низведены до степени рабов («крестьянин в законе мертв», – писал Радищев), дворянство в России получило «вольность и свободу». Культурный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали идеал прав человека.
Позволим себе одну параллель. Античная демократия классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных граждан. Странно было бы приукрашивать рабовладельческий строй и предполагать, что он не был связан с чудовищными злоупотреблениями. Но не менее странно было бы, глядя на статуи Фидия и Праксителя, читая Софокла или Эврипида, все время приговаривать: «Это все за счет труда рабов». Более того, даже сочинения убежденного сторонника и идеолога рабства Платона не только не исчерпываются «рабовладельческой идеологией», но, бесспорно, являются одной из основ всей европейской цивилизации. Рабовладельческое античное общество создало общечеловеческую культуру. У нас нет причин забывать, во что обошлось России превращение дворянства в замкнутое господствующее сословие, но нет причин забывать и о том, что дала русской и европейской цивилизации русская дворянская культура XVIII – начала XIX века.
Завоевав господствующее положение, дворянство стремилось ослабить свою зависимость от правительства, а следовательно, и от принципов «регулярности» и чиновной иерархии.
В работах некоторых историков высказывалось утверждение, что в результате освобождения дворянства от обязательной службы произошел чуть ли не массовый отлив из нее дворян: «Дворянство, давно тяготившееся службой, всеми способами отлынивающее от нее, всячески добивалось освобождения от этой повинности». В Грамоте 21 апреля 1785 года они видят лишь «установление вольности на безделье»[34 - Там же, т. 5, с. 15–16.]. Такое объяснение представляется упрощенным. Тем более сомнительным кажется утверждение, что в результате Грамоты о вольности дворянства и якобы бегства дворян со службы правительство вынуждено было заполнять должности разночинцами, становившимися личными дворянами. Тезис этот базируется на смешении гражданской службы с военной. Никакого «бегства» с последней как массового явления обнаружить в документах эпохи невозможно. Более того, несмотря на то, что Россия в течение всего XVIII века вела активные военные действия (что, конечно, вызывало высокую убыль офицерских чинов, особенно обер- и штаб-офицеров), никакой нехватки офицерского состава как серьезной армейской проблемы не было. Мы знаем ряд случаев, когда желающие отправлялись в действующую армию сверхштатно, так как вакансии были заполнены. В обширном списке пушкинских знакомых, составленном Л. А. Черейским и дающем весьма представительную общественную выборку, среди родившихся в конце 1790-х годов мы не находим ни одного неслужащего и, следовательно, не имеющего чина дворянина. То же можно сказать и о другом представительном списке – «Алфавите декабристов», – составленном для Николая I перечне всех лиц, в какой-либо мере привлекавшихся к дознанию по делу декабристов или хотя бы упоминавшихся в показаниях. И там нет ни одного дворянина, который бы полностью реализовал свое право никогда не служить. Для доказательства «бегства» дворян со службы приводится такой расчет: «К концу Северной войны среди офицеров русской армии было около 14 % выходцев из недворянских сословий. В 1816 году личные дворяне, то есть вчерашние разночинцы, составляли 44 % всего дворянства империи»[35 - Там же, т. 5, с. 16, со ссылкой на: Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны. – В кн.: Россия в период реформ Петра I. М., 1973, с. 171; Буганов В. И, Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы. М., 1980, с. 241.]. Однако в этом примере сопоставляются данные по армии с общим числом всех дворян в государстве, что, безусловно, некорректно. Конечно, число коллежских асессоров или сенатских секретарей, таких, как герой главы «Зайцево» из «Путешествия из Петербурга в Москву», дослужившихся до личного дворянства, было очень велико, особенно в XIX веке, когда бюрократическая машина быстро росла. Но важнее другое: 1816 год – время окончания десятилетия наполеоновских войн, которые буквально выкосили целое поколение молодых офицеров. Все, кто занимался биографиями людей на рубеже XVIII и XIX веков, знают, как мало в конце 1810-х, в 1820-е годы людей второй половины 1780-х – начала 1790-х годов рождения. После тех, кто родился в начале 1780-х годов, сразу идут родившиеся в 1795–1799 годах. Естественно, что в этих условиях производство из числа заслуженных унтер-офицеров в обер-офицерские чины было намного выше среднего для рассматриваемой эпохи.
Дворянство оставалось служилым сословием. Но само понятие службы сделалось сложно противоречивым. В нем можно различить борьбу государственно-уставных и семейственно-корпоративных тенденций. Последние существенно усложняли структуру реальной жизни дворянского сословия XVIII – начала XIX века и расшатывали неподвижность бюрократического мира. Корпоративные традиции особенно давали себя чувствовать в гвардии.
Гвардия – привилегированные и приближенные к трону полки – возникла при Петре I. Из «потешных» полков молодого царя в конце XVII века были сформированы два гвардейских, получивших наименования по подмосковным селам, в которых они «квартировались»: Преображенский и Семеновский. Преображенский полк в дальнейшем считался первым полком империи. Первый батальон его всегда квартировал на Миллионной, в непосредственной близости от Зимнего дворца. Оба полка получили боевое крещение под Нарвой в 1700 году, обнаружив высокую воинскую стойкость: задержав на три часа наступление шведов, они дали возможность остальной армии отступить. Преображенский, Семеновский и образованный при Анне Иоанновне третий – Измайловский – полк составляли гвардейскую пехоту. Позже были организованы также гвардейские кавалерийские полки: лейб-гвардии конный полк (1730), лейб-гусары и лейб-казаки (1796), кавалергардский (1800), лейб-уланы (1809). Число гвардейских полков и подразделений расширялось. В 1813 г. возникла так называемая «молодая гвардия» (лейб-гренадерский, Павловский и др. полки). Служба в гвардии связана была с пребыванием в столице и выгодно отличалась от армейской: гвардия, как говорилось выше, давала преимущество на два класса по отношению к армии. А поскольку при выходе в отставку, при безупречной службе, человек, как правило, получал следующий чин, то, дослужившись в гвардии до капитана, он мог выйти в отставку в полковничьем чине или перейти в армию подполковником (служба в «молодой гвардии» давала преимущество в один чин).
Гвардия с самого начала своего возникновения играла активную роль в политической жизни, особенно в случаях столь частых в XVIII веке дворцовых переворотов. Елизавета, взойдя на престол, объявила себя полковником всех гвардейских полков, а первую роту преображенцев, сыгравшую свою роль в перевороте, провозгласила «лейб-кампанией» (то есть «лейб-ротой»), произвела всех ее солдат в дворянство и дала им гербы, в символике которых было запечатлено их участие в перевороте. Правда, в дальнейшем буйства лейб-кампанцев доставили правительству много забот. Служба в гвардии не была доходна – она требовала больших средств, но зато открывала хорошие карьерные виды, дорогу политическому честолюбию и авантюризму, столь типичному для XVIII века с его головокружительными взлетами и падениями «случайных» людей.
Гвардия аккумулировала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед. Так было в 1762 году, на важном рубеже русской истории, когда Екатерина II – тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна – свергла с престола своего мужа, Петра III, и воцарилась на престоле с помощью своего любовника Григория Орлова и «гвардейской буйной шайки».
Однако эти же гвардейцы, которые пьянствовали по кабакам и не знали, как расплатиться с долгами, став графами, князьями и получив огромные имения, сделались довольно заметными людьми в русской истории (так, Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл ряд очень важных сражений). Бывшие гвардейцы, став богатыми и влиятельными, сохранили дух гвардейского своеволия, соединив его со своеволием барским, и порой безоглядно нарушали бюрократические установления во имя корпоративных, семейных и других связей.
Как уже говорилось, Петр I хотел, чтобы чины, предусмотренные в Табели о рангах, давались за действительную службу и, как он полагал, отличали бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от имеющих реальные заслуги. Так, Петр установил, что прежде, чем получить первый офицерский чин, дворянин должен был длительное время прослужить солдатом. Однако жизнь вскоре начала очень легко обходить подобные установления. Отдельные случаи нарушений, умножаясь, превращались в освященный практикой обычай. Часто это делалось в гвардии.
Вспомним начало «Капитанской дочки». «Матушка, – сообщает герой пушкинской повести Гринев, – была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если б паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Так оно очень часто и делалось. Правда, для этого надо было иметь в столице заступника – родственника, богатого человека – или же просто дать взятку в полковую канцелярию. Человек, который таких возможностей не имел (например, поэт Г. Р. Державин), должен был прослужить весь положенный срок солдатом прежде, чем получить офицерский чин. Зато человек, имевший «защиту», действовал как родитель Гринева: младенца записывали в службу; он числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла. И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем – и другие чины, особенно при наличии «заступника». Жизнь сопротивлялась мертвящим бюрократическим принципам прежде всего в форме злоупотреблений (порой чудовищных). Казалось, что петровское государство надежно защитилось от всяких случайностей, от всякой «нерегулярности» системой законов, указов, приказов. Однако парадоксальным образом обилие правил обернулось хаосом. Законов издавалось исключительно много, и в этой путанице отменявших и уточнявших друг друга государственных установлений можно было лавировать. Более того: существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение. Например, в течение царствования Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещавший брать взятки, но поскольку закона, разрешающего брать взятки, никогда не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно знала, что закон этот исполняться не будет. Более того: она смотрела на взяточничество сквозь пальцы. Конечно, императрица могла и посмеяться над вельможами-взяточниками: так, Р. Воронцова она назвала Роман – большой карман, а другому подарила вязаный кошелек – для складывания взяток. Однако Екатерина прекрасно знала, что если убрать одного взяточника, то его место займет другой. Как-то она, с присущим ей трезвым цинизмом, сказала Державину, что генерал-губернатор, долго служивший, уже наворовался, а новый только еще начнет воровать.
Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось с ними, но, по существу, само же их и порождало. Сам Петр I рядом с Табелью о рангах породил принцип фаворитизма. Правда, при Петре принцип этот не имел еще такого злокачественного характера: любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями. Узнавая о незаконных действиях своих фаворитов, Петр мог их жестоко (хотя и «по-домашнему») наказать: даже «светлейший» Меншиков не раз испытывал тяжесть руки императора. Некоторые из них плохо кончили: близкий к императору П. Шафиров был приговорен за взятки к смертной казни, правда, замененной ссылкой. Но все же это были именно фавориты, и царь позволял им то, что по закону не должно было позволяться. Когда же в России началось «женское правление», фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине II некоторые из ее фаворитов, например Григорий Потемкин, были серьезными государственными деятелями, некоторые – просто развратными молодыми людьми. Одни из фаворитов были скромными, то есть довольствовались миллионными подарками и десятками тысяч крестьянских душ, как Дмитриев-Мамонов и Завадовский. Другие претендовали на государственные роли. Таков был Платон Зубов, человек безнравственный. Но воровали все…
Другим ограничивающим бюрократию средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы, она имела свои законы. Эти законы не умещались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, в XVIII веке, хотя Петр I, стремясь все упорядочить, хотел разделить людей по чинам, по классам, исключительно сильна была еще сила родства. Когда встречались два человека, первым делом было – счесться родными. И начинали выяснять: «Ваша бабушка – не сестра ли такого-то? А он ведь наш сосед», или: «Он ведь крестил у моего дедушки детей», или: «Он вместе с моим прадедушкой в полку служил». Все эти негласные связи оказывали на жизнь огромное влияние, и не всегда оно было негативным. Рассматривая культурную жизнь позднейших периодов, например 1840-х годов, мы можем сказать, что политические взгляды, принципы мировоззрения разводят даже друзей. А. Герцен с С. Аксаковым – многолетние друзья – встретились в Москве на улице, вышли из пролеток, обнялись и расстались на всю жизнь: они – враги. Но декабристов сближали не только идейные связи – почти все они были родственниками, составляли родственные гнезда (Муравьевы, Бестужевы и многие другие). В начале XIX века все еще казалось, что родственникам можно доверять, что люди, выросшие вместе, – соседи, однополчане – связаны надежно. Близость не идейная, а дружеская, человеческая оказывалась в достаточной степени сильной. Иногда это приводило к нарушению законов. Но иногда – создавало ту атмосферу доверия, противоречащую бюрократическим отношениям, которая делала дом (свой, своих родных и друзей) надежной крепостью, недоступной доносчику или шпиону.
Женский мир
Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII – начала XIX века. Но при этом, хотя мы все время говорили «человек», речь шла о мужчинах. Между тем женщина этой поры не только была включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала играть в ней все большую и большую роль. И женщина очень менялась.
Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи. С одной стороны, женщина, с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. В этом смысле характер женщины можно назвать одним из самых чутких барометров общественной жизни. С другой стороны, женский характер парадоксально реализует и прямо противоположные свойства. Женщина – жена и мать – в наибольшей степени связана с надысторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире отпечатков эпохи. Поэтому влияние женщины на облик эпохи в принципе противоречиво, гибко и динамично. Гибкость проявляется в разнообразии связей женского характера с эпохой.
Женское влияние редко рассматривается как самостоятельная историческая проблема. Если, говоря о XVIII – начале XIX века, историк нарисует образ Салтычихи, то, скорее всего, с целью охарактеризовать крепостнические нравы. То, что речь идет о женщине, выступит как случайность исторического процесса. Если же вопрос этот все-таки возникнет, то, как правило, исследователь исчерпает его общими замечаниями о неразвитости (малоразвитости) женщин в тот или иной удаленный от нас период, иногда упомянет о редких исключениях из этого правила.
Нас же будут интересовать как те особенности, которые эпоха накладывала на женский характер, так и те, которые женский характер придавал эпохе.
Разумеется, женский мир сильно отличался от мужского. Прежде всего тем, что он был выключен из сферы государственной службы. Женщины не служили, чинов не имели, хотя государство стремилось распространить чиновничий принцип и на них. В Табели о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке): «Насопротив того имеют все девицы, которых отцы в 1 ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5 ранге обретаются, а именно, ниже Генерал-майора, а выше Бригадира, и девицы, которых отцы во 2 ранге, над женами, которые в 6 ранге, то есть ниже Бригадира, а выше Полковника; а девицы, которых отцы в 3 ранге, над женами 7 ранга, то есть ниже Полковника, а выше Подполковника, и проч.»[36 - Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I, с. 186.]. Позже эти бюрократические ранги все более разрастались. При Анне и при Елизавете было установлено, дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какого – серебряное, какова должна быть ширина кружев и т. д. Появилось выражение «дама такого-то класса». Позже Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на Седьмой линии он любил даму XII класса.
Итак, чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца[37 - Только в придворной службе женщины сами имели чины. В Табели о рангах находим: «Дамы и девицы при дворе, действительно в чинах обретающиеся, имеют следующие ранги…» (Памятники русского права. Вып. 8, с. 186) – далее следовало их перечисление.]. В документах эпохи мы встречаем слова: «полковница», «статская советница», «тайная советница». Однако слова эти определяют не независимое положение самой женщины, а положение ее мужа (для девушки – отца). В комедии Д. Фонвизина «Бригадир» Бригадирша и Советница – это, соответственно, жены Бригадира и Советника.
В одном рассказе Н. Лескова говорится о привычке некоего иерарха играть со своими подчиненными, заставляя их отвечать ему стихами – «в рифму». Однажды во время прогулки он произнес:
Чертоги зрю монарши.
Спутник его ответил в рифму:
Погиб Фома от секретарши.
Современному читателю естественно понять слово «секретарша» как указание на должность или место службы женщины. Однако такое толкование в конце XVIII – начале XIX века было бы совершенно невозможным. Речь идет о жене секретаря.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: