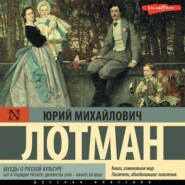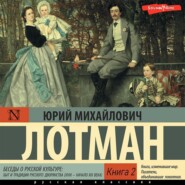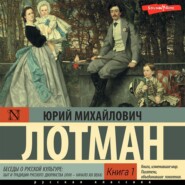По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Структура художественного текста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но очевидно вместе с тем, что не только «знаки-имена», но и «знаки-связки» играют моделирующую роль – они воспроизводят концепцию связей в обозначаемом объекте.
Итак, всякая коммуникативная система может выполнять моделирующую функцию и, обратно, всякая моделирующая система может играть коммуникативную роль. Конечно, та или иная функция может быть выражена более сильно или почти совсем не ощущаться в том или ином конкретном социальном употреблении. Но потенциально присутствуют обе функции
.
Это чрезвычайно существенно для искусства.
Если произведение искусства что-либо мне сообщает, если оно служит целям коммуникации между отправителем и получателем, то в нем можно выделить:
1) сообщение – то, что мне передается;
2) язык – определенную, общую для передающего и принимающего абстрактную систему, которая делает возможным самый акт коммуникации. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, отвлечение каждой из названных сторон возможно лишь в порядке исследовательской абстракции, противопоставление этих двух аспектов в произведении искусства, на определенной стадии изучения, совершенно необходимо.
Язык произведения – это некоторая данность, которая существует до создания конкретного текста и одинакова для обоих полюсов коммуникации (в дальнейшем в это положение будут введены некоторые коррективы). Сообщение – это та информация, которая возникает в данном тексте. Если мы возьмем большую группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом все «внесистемное» с данной точки зрения, то получим структурное описание языка данной группы текстов. Так построена, например, классическая «Морфология волшебной сказки» В. Я. Проппа, дающая модель этого фольклорного жанра. Мы можем рассмотреть все возможные балеты как один текст (так, как мы обычно рассматриваем все исполнения данного балета как варианты одного текста) и, описав его, получим язык балета, и т. д.
Искусство неотделимо от поисков истины. Однако необходимо подчеркнуть, что «истинность языка» и «истинность сообщения» – понятия принципиально различные. Для того чтобы представить себе эту разницу, вообразим, с одной стороны, высказывания об истинности или ложности решения той или иной задачи, логической правильности того или иного утверждения, а с другой, рассуждения об истинности геометрии Лобачевского или четырехзначной логики. О каждом сообщении на русском или любом другом из естественных языков можно задать вопрос: истинно оно или ложно. Но этот вопрос совершенно теряет смысл применительно к какому-либо языку в целом. Поэтому часто встречающиеся рассуждения о художественной непригодности, неполноценности или даже «порочности» каких-либо художественных языков (например, языка балета, языка восточной музыки, языка абстрактной живописи) заключают в себе логическую ошибку – результат смешения понятий. Между тем очевидно, что суждению об истинности или ложности должно предшествовать внесение ясности в постановку вопроса, что оценивается: язык или сообщение. Соответственно и будут работать различные критерии оценки. Культура заинтересована в своеобразном полиглотизме. Не случайно искусство в своем развитии отбрасывает устарелые сообщения, но с поразительной настойчивостью сохраняет в своей памяти художественные языки прошедших эпох. История искусств изобилует «ренессансами» – возрождением художественных языков прошлого, воспринимаемых как новаторские.
Расчленение этих аспектов существенно и для литературоведа (как и вообще искусствоведа). Здесь дело не только в постоянном смешении своеобразия языка художественного текста и его эстетической ценности (с постоянным утверждением «непонятное – плохое»), но и в отсутствии сознательного расчленения исследовательской задачи, в отказе от постановки вопроса о том, что изучается – общий художественный язык эпохи (направления, писателя) или определенное сообщение, переданное на этом языке.
В последнем случае, видимо, целесообразнее описывать массовые, «средние», наиболее стандартизованные тексты, в которых общая норма художественного языка обнажена отчетливее всего. Нерасчленение этих двух аспектов приводит к тому смешению, на которое указывало еще традиционное литературоведение и избежать которого на интуитивном уровне оно пыталось, требуя различать «массовое» и «индивидуальное» в литературном произведении. Среди ранних и весьма далеких от совершенства опытов изучения массовой художественной нормы можно назвать, например, известную монографию В. В. Сиповского по истории русского романа. В начале 1920-х годов вопрос этот уже был поставлен как совершенно отчетливая задача. Так, В. ?. Жирмунский писал, что при изучении массовой литературы «по существу поставленной задачи приходится, отвлекаясь от индивидуального, улавливать распространение некоторой общей тенденции»
. Вопрос этот отчетливо ставился в работах Шкловского и Виноградова.
Однако, осознав различие этих аспектов, нельзя не заметить, что отношение между ними в художественных и нехудожественных коммуникациях глубоко отлично, и самый факт настойчивого отождествления проблем специфики языка того или иного вида искусства с ценностью передаваемой на нем информации настолько широко распространен, что не может оказаться случайным.
Всякий естественный язык состоит из знаков, характеризуемых наличием определенного внеязыкового содержания, и синтагматических элементов, содержание которых не только воспроизводит внеязыковые связи, но и в значительной мере имеет имманентный, формальный характер. Правда, между этими группами языковых фактов существует постоянное взаимопроникновение: с одной стороны, значимые элементы становятся служебными, с другой – служебные постоянно семантизируются (осмысление грамматического рода как содержательно-половой характеристики, категория одушевленности и т. д.). Однако процесс диффузии здесь настолько незаметен, что оба аспекта вычленяются весьма четко.
Иное дело в искусстве. Здесь, с одной стороны, проявляется постоянная тенденция к формализации содержательных элементов, к их застыванию, превращению в штампы, полному переходу из сферы содержания в условную область кода. Приведем единственный пример. Б. А. Тураев в своем очерке истории египетской литературы сообщает, что настенные изображения египетских храмов знают особый сюжет: рождение фараонов в виде строго повторяющихся эпизодов и сцен. Это – «галерея изображений, сопровождаемых текстом и представляющих древнюю композицию, составленную, вероятно, для царей V дин. и потом в стереотипной форме передававшуюся официально из поколения в поколение». Автор указывает, что «этой официальной драматической поэмой в ряде картин особенно охотно пользовались те, права которых на престол оспаривались»
, как, например, царица Хатшепсут, и сообщает замечательный факт: желая укрепить свои права, Хатшепсут приказала поместить на стенах Дейр-эль-Бахри изображение своего рождения. Но при этом изменение, соответствующее полу царицы, было внесено лишь в подпись. Само же изображение осталось строго традиционным и представляло рождение мальчика. Оно полностью формализовалось, и информационной была не отнесенность изображения ребенка к реальному прототипу, а сам факт помещения или непомещения в храме художественного текста, связь которого с данной царицей устанавливалась лишь посредством подписи.
С другой стороны, стремление осмыслить все в художественном тексте как значимое настолько велико, что мы с основанием считаем, что в произведении нет ничего случайного. И мы еще будем неоднократно обращаться к глубоко обоснованному Р. Якобсоном
утверждению о художественном значении грамматических форм в поэтическом тексте, равно как и к другим примерам семантизации формальных элементов текста в искусстве.
Конечно, соотношение двух этих начал в разных исторических и национальных формах искусства будет различным. Но их наличие и взаимосвязь постоянны. Более того, если мы допустим два высказывания: «В произведении искусства все принадлежит художественному языку» – и: «В произведении искусства все является сообщением», – противоречие, в которое мы впадаем, будет только кажущимся.
При этом естественно возникает вопрос: нельзя ли отождествить язык с формой художественного произведения, а сообщение – с содержанием, и не отпадает ли тогда утверждение, что структуральный анализ снимает дуализм рассмотрения художественного текста с точки зрения формы и содержания? Видимо, подобного отождествления не следует делать. Прежде всего потому, что язык художественного произведения – совсем не «форма», если вкладывать в это понятие представление о чем-то внешнем по отношению к несущему информационную нагрузку содержанию. Язык художественного текста в своей сущности является определенной художественной моделью мира и в этом смысле всей своей структурой принадлежит «содержанию» – несет информацию. Мы уже отмечали, что модель мира, создаваемая языком, более всеобща, чем глубоко индивидуальная в момент создания модель сообщения. Сейчас уместно сказать о другом: художественное сообщение создает художественную модель какого-либо конкретного явления – художественный язык моделирует универсум в его наиболее общих категориях, которые, будучи наиболее общим содержанием мира, являются для конкретных вещей и явлений формой существования. Таким образом изучение художественного языка произведений искусства не только дает нам некую индивидуальную норму эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в ее самых общих очертаниях. Поэтому с определенных точек зрения информация, заключающаяся в выборе типа художественного языка, представляется наиболее существенной.
Выбор писателем определенного жанра, стиля или художественного направления – тоже есть выбор языка, на котором он собирается говорить с читателем. Язык этот входит в сложную иерархию художественных языков данной эпохи, данной культуры, данного народа или данного человечества (в конце концов, с необходимостью возникает и такая постановка вопроса). При этом следует отметить одну существенную черту, к которой мы еще вернемся: язык данной науки является для нее единственным, связанным с особым, ей присущим, предметом и аспектом. Чрезвычайно плодотворная в большинстве случаев и возникающая в связи с интердисциплинарными проблемами перекодировка с одного языка нa другой или раскрывает в одном, как прежде казалось, объекте – объекты двух наук, или ведет к созданию новой области познания, с новым, ей присущим, метаязыком.
Естественный язык в принципе допускает перевод. Он закреплен не за объектом, а за коллективом. Однако внутри себя он уже имеет определенную иерархию стилей, позволяющую содержание одного и того же сообщения изложить с разных прагматических точек зрения. Построенный таким образом язык моделирует не только определенную структуру мира, но и точку зрения наблюдателя.
В языке искусства с его двойной задачей одновременного моделирования и объекта и субъекта происходит постоянная борьба между представлением о единственности языка и о возможности выбора между в какой-то мере адекватными художественными коммуникативными системами. На одном полюсе стоит размышление, волновавшее еще автора «Слова о полку Игореве»: петь ли песнь «по былинам сего времени» или «по замышлению Баяна», на другом – утверждение Достоевского: «Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме»
.
Противоположность и этих высказываний, в сущности, мнимая: там, где существует лишь один возможный язык, не возникает проблемы соответствия – несоответствия его моделирующей сущности авторской модели мира. Моделирующая система языка в этом случае не обнажена. Чем больше потенциальная возможность выбора, тем более информации несет в себе сама структура языка и тем резче обнажается соотнесенность ее с той или иной моделью мира.
И вот потому, что язык искусства моделирует наиболее общие аспекты картины мира – ее структурные принципы – в целом ряде случаев именно он и будет основным содержанием произведения, может стать его сообщением – текст замкнется на себе. Так бывает во всех случаях литературных пародий, полемик – в тех случаях, когда художник определяет самый тип отношения к действительности и основные принципы его художественного воспроизведения.
Таким образом, язык искусства не может быть отождествлен с традиционным понятием формы. Более того, используя тот или иной естественный язык, язык искусства делает его формальные стороны содержательными.
Наконец, необходимо рассмотреть еще один аспект отношения языка и сообщения в искусстве. Представим себе два портрета Екатерины II: парадный, кисти Левицкого, и бытовой, изображающий императрицу в царскосельском парке, написанный Боровиковским. Для современников-царедворцев чрезвычайно существенным было сходство портрета с известной им внешностью императрицы. То, что на обоих портретах изображено одно и то же лицо, составляло для них основное сообщение, разница в трактовке, специфика художественного языка – волновала только людей, посвященных в тайны искусства. Для нас навсегда утрачен интерес, который имели эти портреты в глазах людей, видавших Екатерину II, зато на первый план выдвигается разница художественной трактовки. Информационная ценность языка и сообщения, данных в одном и том же тексте, меняется в зависимости от структуры читательского кода, его требований и ожиданий.
Однако подвижность и взаимосвязь этих двух начал особенно резко проявляется в другом. Прослеживая процесс функционирования художественного произведения, мы не можем не отметить одну особенность: в момент восприятия художественного текста мы склонны ощущать и многие аспекты его языка в качестве сообщения – формальные элементы семантизируются, то, что присуще общекоммуникационной системе, войдя в специфическую структурную целостность текста, воспринимается как индивидуальное. В талантливом произведении искусства все воспринимается как созданное ad hoc. Однако в дальнейшем, войдя в художественный опыт человечества, произведение, для будущих эстетических коммуникаций, все становится языком, и то, что было случайностью содержания для данного текста, становится кодом для последующих. Н. И. Новиков еще в середине XVIII века писал: «Меня никто не уверит и в том, чтобы Мольеров Гарпагон писан был на общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет обращается в критику на общий порок; осмеянной по справедливости Кащей со временем будет общий подлинник всех лихоимцев»
.
Понятие языка словесного искусства
Если пользоваться понятием «язык искусства» в том значении, которое мы ему условились придавать выше, то очевидно, что художественная литература, как один из видов массовой коммуникации, должна обладать своим языком. «Обладать своим языком» – это значит иметь определенный замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, которые позволяют передавать некоторые сообщения.
Но литература уже имеет дело с одним из типов языков – естественным языком. Как соотносятся «язык литературы»
и тот естественный язык, на котором произведение написано (русский, английский, итальянский или любой другой)? Да и есть ли этот «язык литературы», или достаточно разделить содержание произведения («сообщение»; ср. наивный читательский вопрос: «Про что там?») и язык художественной литературы как функционально-стилистический пласт общенационального естественного языка?
Чтобы уяснить себе этот вопрос, поставим перед собой следующую весьма тривиальную задачу. Выберем следующие тексты: группа I – картина Делакруа, поэма Байрона, симфония Берлиоза; группа II – поэма Мицкевича, фортепианные пьесы Шопена; группа III – поэтические тексты Державина, архитектурные ансамбли Баженова. Теперь зададимся целью, как это уже неоднократно делалось в различных этюдах по истории культуры, представить тексты внутри каждой из групп как один текст, сводя их к вариантам некоторого инвариантного типа. Таким инвариантным типом для первой группы будет «западноевропейский романтизм», для второй – «польский романтизм», для третьей – «русский предромантизм». Само собой разумеется, что можно поставить перед собой задачу описать все три группы как единый текст, введя абстрактную модель инварианта второй ступени.
Если мы поставим перед собой такую задачу, то нам, естественно, придется выделить некоторую коммуникативную систему – «язык» – сначала для каждой из этих групп, а затем и для всех трех вместе. Предположим, что описание этих систем будет производиться на русском языке. Ясно, что в данном случае он выступит как метаязык описания (оставляем в стороне вопрос о некорректности подобного описания, поскольку неизбежно моделирующее влияние метаязыка на объект), но сам описываемый «язык романтизма» (или любой из частных его подъязыков, соответствующий указанным трем группам) не может быть отождествлен ни с одним из естественных языков, поскольку будет пригоден для описания и несловесных текстов. Между тем полученная таким образом модель языка романтизма будет приложима и к литературным произведениям и на определенном уровне сможет описывать систему их построения (на уровне, общем для словесных и несловесных текстов).
Но необходимо рассмотреть, как относятся к естественному языку те структуры, которые создаются внутри словесных художественных конструкций и не могут быть перекодированы на языки несловесных искусств.
Художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная система. Поэтому ее определяют как вторичную моделирующую систему. Конечно, литература – не единственная вторичная моделирующая система, но рассмотрение ее в этом ряду увело бы нас слишком далеко в сторону от нашей непосредственной задачи.
Сказать, что у литературы есть свой язык, не совпадающий с ее естественным языком, а надстраивающийся над ним, – значит, сказать, что литература имеет свою, только ей присущую систему знаков и правил их соединения, которые служат для передачи особых, иными средствами не передаваемых сообщений. Попробуем это доказать.
В естественных языках сравнительно легко выделяются знаки – устойчивые инвариантные единицы текста – и правила синтагматики. Знаки отчетливо разделяются на планы содержания и выражения, между которыми существует отношение взаимной необусловленности, исторической конвенциональности. В словесном художественном тексте не только границы знаков иные, но иное и само понятие знака.
Нам уже приходилось писать, что знаки в искусстве имеют не условный, как в языке, а иконический, изобразительный характер
. Положение это, очевидное для изобразительных искусств, применительно к словесным влечет за собой ряд существенных выводов. Иконические знаки построены по принципу обусловленной связи между выражением и содержанием. Поэтому разграничение планов выражения и содержания в обычном для структурной лингвистики смысле делается вообще затруднительным. Знак моделирует свое содержание. Понятно, что в этих условиях в художественном тексте происходит семантизация внесемантических (синтаксических) элементов естественного языка. Вместо четкой разграниченности семантических элементов происходит сложное переплетение: синтагматическое на одном уровне иерархии художественного текста оказывается семантическим на другом.
Но тут следует напомнить, что именно синтагматические элементы в естественном языке отмечают границы знаков и членят текст на семантические единицы. Снятие оппозиции «семантика – синтактика» приводит к размыванию границ знака. Сказать: все элементы текста суть элементы семантические – означает сказать: понятие текста в данном случае идентично понятию знака.
В определенном отношении это так и есть: текст есть целостный знак, и все отдельные знаки общеязыкового текста сведены в нем до уровня элементов знака.
Таким образом каждый художественный текст создается как уникальный, ad hoc сконструированный знак особого содержания. Это на первый взгляд противоречит известному положению о том, что только повторяемые элементы, образующие некоторое замкнутое множество, могут служить передаче информации. Однако противоречие здесь кажущееся. Во-первых, как мы уже отмечали, созданная писателем окказиональная структура модели навязывается читателю уже как язык его сознания. Окказиональность заменяется универсальностью. Но дело не только в этом. «Уникальный» знак оказывается «собранным» из типовых элементов и на определенном уровне «читается» по традиционным правилам. Всякое новаторское произведение строится из традиционного материала. Если текст не поддерживает памяти о традиционном построении, его новаторство перестает восприниматься.
Образующий один знак, текст одновременно остается текстом (последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже поэтому сохраняет разбиение на слова – знаки общеязыковой системы. Так возникает то характерное для искусства явление, согласно которому один и тот же текст при приложении к нему различных кодов различным образом распадается на знаки.
Одновременно с превращением общеязыковых знаков в элементы художественного знака протекает и противоположный процесс. Элементы знака в системе естественного языка: фонемы, морфемы – становясь в ряды некоторых упорядоченных повторяемостей, семантизируются и становятся знаками. Таким образом, один и тот же текст может быть прочтен как некоторая образованная по правилам естественного языка цепочка знаков, как последовательность знаков более крупных, чем членение текста на слова, вплоть до превращения текста в единый знак, и как организованная особым образом цепочка знаков более дробных, чем слово, вплоть до фонем.
Правила синтагматики текста также связаны с этим положением. Дело не только в том, что семантические и синтагматические элементы оказываются взаимообратимыми, но и в другом: художественный текст выступает и как совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно. В каждом из этих случаев характер синтагматических связей различен. Первые два случая не нуждаются в комментариях, зато на последнем следует остановиться.
Будет ошибочным полагать, что совпадение границ знака с границами текста снимает проблему синтагматики. Рассмотренный таким образом текст может распадаться на знаки и соответственно синтагматически организовываться. Но это будет не синтагматика цепочки, а синтагматика иерархии – знаки будут связаны, как куклы-матрешки, вкладываемые одна в другую.
Подобная синтагматика вполне «реальна для построения художественного текста, и если она непривычна для лингвиста, то историк культуры легко найдет ей параллели, например в структуре мира, увиденного глазами Средневековья.