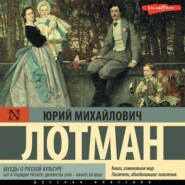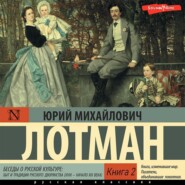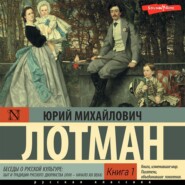По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Анализ поэтического текста. Структура стиха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы постараемся показать, что на типологической лестнице от простоты к сложности – расположение жанров иное: разговорная речь – песня (текст + мотив) – «классическая поэзия» – художественная проза. Разумеется, схема эта весьма приблизительна, но невозможно согласиться с тем, что художественная проза представляет собой исторически исходную форму, однотипную разговорной нехудожественной речи (вопрос о vers libre будет оговорен отдельно).
На самом деле, соотношение иное: стихотворная речь (равно как и распев, пение) была первоначально единственно возможной речью словесного искусства. Этим достигалось «расподобление» языка художественной литературы, отделение его от обычной речи. И лишь затем начиналось «уподобление»: из этого – уже относительно резко «непохожего» – материала создавалась картина действительности, средствами человеческого языка строилась модель-знак. Если язык по отношению к действительности выступал как некая воспроизводящая структура, то литература представляла собой структуру структур.
Структурный анализ исходит из того, что художественный прием – не материальный элемент текста, а отношение. Существует принципиальное различие между отсутствием рифмы в стихе, еще не подразумевающем возможности ее существования (например, античная поэзия, русский былинный стих и т. п.) или уже от нее отказавшемся, так что отсутствие рифмы входит в читательское ожидание, в эстетическую норму этого вида искусства (например, современный vers libre), с одной стороны, – и в стихе, включающем рифму в число характернейших признаков поэтического текста, – с другой. В первом случае отсутствие рифмы не является художественно значимым элементом, во втором – отсутствие рифмы есть присутствие не-рифмы, минус-рифма. В эпоху, когда читательское сознание, воспитанное на поэтической школе Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина, отождествляло романтическую поэтику с самим понятием поэзии, художественная система «Вновь я посетил…» производила впечатление не отсутствия «приемов», а максимальной их насыщенности. Но это были «минус-приемы», система последовательных и сознательных, читательски ощутимых отказов. В этом смысле в 1830 году поэтический текст, написанный по общепринятым нормам романтической поэтики, производил более «голое» впечатление, был в большей степени, чем пушкинский, лишен элементов художественной структуры.
Описательная поэтика похожа на наблюдателя, который только зафиксировал определенное жизненное явление (например, «голый человек»). Структурная поэтика всегда исходит из того, что наблюдаемый феномен – лишь одна из составляющих сложного целого. Она походит на наблюдателя, неизменно спрашивающего: «В какой ситуации?» Ясно, что голый человек в бане не равен голому человеку в общественном собрании. В первом случае отсутствие одежды – общий признак, он ничего не говорит о своеобразии данного человека. Развязанный галстук на балу – бо?льшая степень наготы, чем отсутствие одежды в бане. Статуя Аполлона в музее не выглядит голой, но попробуйте повязать ей на шею галстук, и она поразит вас своим неприличием.
Со структурной точки зрения вещественный, набранный типографскими литерами текст теряет свое абсолютное, самодовлеющее значение как единственный объект художественного анализа. Следует решительно отказаться от представления о том, что текст и художественное произведение – одно и то же. Текст – один из компонентов художественного произведения, конечно, крайне существенный компонент, без которого существование художественного произведения невозможно. Но художественный эффект в целом возникает из сопоставлений текста со сложным комплексом жизненных и идейно-эстетических представлений.
В свете сказанного и представляется возможным определить историческое соотношение поэзии и прозы[11 - Мы используем в данном случае материал истории русской литературы, но в принципе нас интересует сейчас не специфика национально-литературного развития и даже не историческая его типология, а теоретический вопрос соотнесения поэзии и прозы.].
Прежде всего, следует отметить, что многочисленные нестихотворные жанры в фольклоре и русской средневековой литературе в принципе отличаются от прозы XIX столетия. Употребление в данном случае общих терминов – лишь результат диффузности понятий в нашей науке.
Это – жанры, которые не противостоят поэзии, поскольку развиваются до ее возникновения. Они не образовывали с поэзией контрастной двуединой пары и воспринимались вне связи с ней. Стихотворные жанры фольклора не противостоят прозаическим жанрам, а просто с ними не соотносятся, поскольку воспринимаются не как две разновидности одного искусства, а как разные искусства – песенное и разговорное. Совершенно отлично от прозы XIX века, ввиду отсутствия соотнесенности с поэзией, отношение фольклорных и средневековых «прозаических» жанров к разговорной речи. Проза XIX века противопоставлена поэтической речи, воспринимаемой как «условная», «неестественная», и движется к разговорной стихии. Процесс этот – лишь одна из сторон эстетики, подразумевающей, что сходство с жизнью, движение к действительности – цель искусства.
«Проза» в фольклоре и средневековой литературе живет по иным законам: она только что родилась из недр общеразговорной стихии и стремится от нее отделиться. На этой стадии развития литературы рассказ о действительности еще не воспринимается как искусство. Так, летопись не переживалась читателями и летописцами как художественный текст, в нашем наполнении этого понятия.
Структурные элементы: архаизация языка в житийной литературе, фантастическая необычность сюжета волшебной сказки, подчеркнутая условность повествовательных приемов, строгое следование жанровому ритуалу – создают облик стиля, сознательно ориентированного на отличие от стихии «обычного языка».
Не касаясь сложного вопроса о месте прозы в литературе XVIII – начала XIX века, отметим лишь, что, каково бы ни было реальное положение вещей, литературная теория той эпохи третировала роман и другие прозаические жанры как низшие разновидности искусства. Проза все еще то сливалась с философской и политической публицистикой, воспринимаясь как жанр, выходящий за пределы изящной словесности[12 - Показательно, что критика пушкинской эпохи высшими достижениями прозы начала 1820-х годов считала «Историю государства российского» Карамзина, «Опыт теории налогов» Н. Тургенева и «Опыт теории партизанского действия» Д. Давыдова.], то считалась чтивом, рассчитанным на нетребовательного и эстетически невоспитанного читателя.
Проза в современном значении слова возникает в русской литературе с Пушкина. Она соединяет одновременно представление об искусстве высоком и о не-поэзии. За этим стоит эстетика «жизни действительной» с ее убеждением, что источник поэзии – реальность. Таким образом, эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь на фоне поэтической культуры. Проза – явление более позднее, чем поэзия, возникшее в эпоху хронологически более зрелого эстетического сознания. Именно потому, что проза эстетически вторична по отношению к поэзии и воспринимается на ее фоне, писатель может смело сближать стиль прозаического художественного повествования с разговорной речью, не боясь, что читатель утратит чувство того, что имеет дело не с действительностью, а с ее воссозданием. Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту и близость к обычной речи, проза эстетически сложнее поэзии, а ее простота вторична. Разговорная речь действительно равняется тексту, художественная проза = текст + «минус-приемы» поэтически условной речи. И снова приходится заметить, что в данном случае прозаическое литературное произведение не равно тексту: текст – лишь одна из образующих сложной художественной структуры.
В дальнейшем возможно складывание художественных нормативов, позволяющих воспринимать прозу как самостоятельное художественное образование – вне соотношения ее с поэтической культурой. В определенные моменты литературного развития складывается даже обратное отношение: поэзия начинает восприниматься на фоне прозы, которая выполняет роль нормы художественного текста.
В связи с этим уместно отметить, что в свете структурного анализа художественная простота раскрывается как нечто противоположное примитивности. Отнюдь не любовь к парадоксам заставляет утверждать, что художественная простота сложнее, чем художественная сложность, ибо возникает как упрощение последней и на ее фоне. Таким образом, анализ художественных структур словесного искусства естественно начинать с поэзии как наиболее элементарной системы, как системы, чьи элементы в значительной мере получают выражение в тексте, а не реализуются в качестве «минус-приемов». При анализе поэтического произведения внетекстовые связи и отношения играют меньшую роль, чем в прозе.
Исследовательский путь от поэзии к прозе как более сложной структуре повторяет историческое движение реального литературного процесса, который дает нам сначала поэтическую структуру, заполняющую собой весь объем понятия «словесное искусство» и контрастно соотнесенную (по принципу выделения) с фоном, куда входят разговорная и все виды письменной нехудожественной (с точки зрения человека той поры) речи.
Следующим этапом является вытеснение поэзии прозой. Проза стремится стать синонимом понятия литературы и проецируется на два фона: поэзию предшествующего периода – по принципу контраста – и «обычную» нехудожественную речь в качестве предела, к которому стремится (не сливаясь с ней) структура литературного произведения.
В дальнейшем поэзия и проза выступают как две самостоятельные, но соотнесенные художественные системы. Понятие простоты в искусстве значительно более всеобъемлюще, чем понятие прозы. Оно шире даже, чем такое литературоведческое обобщение как «реализм». Определение простоты произведения искусства представляет большие трудности. И все же в рабочем порядке оно необходимо для выявления специфики прозы. При этом весьма существенна оценочная сторона вопроса.
Необходимо отметить, что представление о простоте как синониме художественного достоинства появилось в искусстве весьма поздно. Произведения древнерусской литературы, поражающие нас своей простотой, совсем не казались такими современникам. Кирилл Туровский считал, что «летописцы и песнотворцы» «прислушиваются к рассказам» обычных людей, чтобы пересказать их потом «в изящной речи» и «возвеличить похвалами»[13 - «Творения (…) Кирилла Туровского». Киев, 1880, стр. 60.], а Даниил Заточник так изображает процесс художественного творчества: «Вострубим убо братие, аки в златокованную трубу, в разум ума своего и начнем бити в сребреные арганы во известие мудрости, и ударим в бубны ума своего»[14 - Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII веков и их переделкам. Л., Изд. АН СССР, 1932, стр. 7.]. Представление об «украшенности» как необходимом знаке того, чтобы искусство воспринималось именно как искусство (как нечто «сделанное» – модель), присуще многим исторически ранним художественным методам. Это же применимо и к истории возрастного развития: для ребенка «красиво» и «украшено» почти всегда совпадает. Ту же черту можно отметить и в современном эстетически неразвитом «взрослом» вкусе, который всегда рассматривает красоту и пышность как синонимы. (Из сказанного, конечно, нельзя вывести обратного силлогизма о том, что всякая пышность уже сама по себе – свидетельство эстетической невоспитанности.)
Понимание простоты как эстетической ценности приходит на следующем этапе и неизменно связано с отказом от украшенности. Ощущение простоты искусства возможно лишь на фоне искусства «украшенного», память о котором присутствует в сознании зрителя-слушателя. Для того чтобы простое воспринималось именно как простое, а не как примитивное, нужно, чтобы оно было упрощенным, то есть чтобы художник сознательно не употреблял определенные элементы построения, а зритель-слушатель проецировал его текст на фон, в котором эти «приемы» были бы реализованы. Таким образом, если «украшенная» («сложная») структура реализуется главным образом в тексте, то «простая» – в значительной степени за его пределами, воспринимаясь как система «минус-приемов», нематериализованных отношений (эта «нематериализованная» часть вполне реальна и в философском, а не бытовом значении слова – вполне материальна, входит в материю структуры произведения). Следовательно, в структурном отношении простота – явление значительно более сложное, чем «украшенность». В том, что сказанное – не парадокс, а истина, убедится каждый, кто, например, займется анализом прозы Марлинского или Гюго, с одной стороны, и Чехова и Мопассана – с другой. (В данном случае речь идет не о сравнительном художественном качестве, а о том, что изучить художественную природу произведения в первом случае, конечно, значительно легче.)
Но отсюда же вытекает и то, что понятие «простоты», типологически вторичное, исторически очень подвижно, зависит от системы, на которую проецируется. Понятно, например, что мы, невольно проецируя творчество Пушкина на уже известную нам реалистическую традицию от Гоголя до Чехова, воспринимаем «простоту» Пушкина иначе, чем его современники.
Для того чтобы ввести понятие простоты в определенные измеримые границы, придется определить еще один, тоже внетекстовой, компонент. Если в свете сказанного выше простота выступает как «не-сложность» – отказ от выполнения определенных принципов («простота «сложность» – двуединая оппозиционная пара), то вместе с тем создание «простого произведения» (как и всякого другого) есть одновременно стремление к выполнению некоторых принципов (реализация замысла может рассматриваться как интерпретация определенной абстрактной модели моделью более конкретного уровня). Вне учета отношения текста художественного произведения к этой идеальной модели простоты (куда войдут и такие понятия, как, например, «граница возможностей искусства») сущность его останется непонятной. Не только «простота» неореалистического итальянского фильма, но и «простота» некрасовского метода была бы, вероятно, для Пушкина вне пределов искусства.
Из сказанного ясно, что искусственно моделировать «сложные» формы искусства будет значительно более просто, чем простые.
В истории литературы параллель между прозой и художественной простотой проводилась неоднократно.
«Точность и краткость – вот первые достоинства прозы, – писал Пушкин, критикуя школу Карамзина. – Она (проза. – Ю. Л.) требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат»[15 - А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд. АН СССР, стр. 19.].
Белинский, определивший в «Литературных мечтаниях» господство школы Карамзина как «век фразеологии», в обзоре «Русская литература в 1842 г.» прямо поставил знак равенства между терминами «проза», «богатство содержания» и понятием художественного реализма.
«И что бы, вы думали, убило наш добрый и невинный романтизм ‹…›? Проза! Да, проза, проза и проза ‹…›. Мы под «стихами» разумеем здесь не одни размеренные и заостренные рифмою строчки ‹…› Так, например, «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» Пушкина – настоящие стихи; «Онегин», «Цыганы», «Полтава», «Борис Годунов» – уже переход к прозе, а такие поэмы, как «Сальери и Моцарт», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Галуб», «Каменный гость», – уже чистая беспримесная проза, где уже совсем нет стихов, хотя эти поэмы писаны и стихами ‹…› мы под «прозою» разумеем богатство внутреннего поэтического содержания, мужественную зрелость и крепость мысли, сосредоточенную в самой себе силу чувства, верный такт действительности»[16 - В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI. М., Изд. АН СССР, 1955, стр. 523.].
Сказанное Пушкиным и Белинским нельзя отнести к числу случайных сцеплений понятий – оно отражает основу эстетического переживания прозы. Понятие простоты бесконечно шире понятия прозы, но возвести прозу в ранг художественных явлений оказалось возможным только тогда, когда выработалось представление о простоте как основе художественного достоинства. Исторически и социально обусловленное понятие простоты сделало возможным создание моделей действительности в искусстве, определенные элементы которых реализовывались как «минус-приемы».
Художественная проза возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание.
Подобное понимание отношения поэзии и прозы позволяет диалектически взглянуть на проблему границы этих явлений и эстетическую природу пограничных форм типа vers libre. Здесь складывается любопытный парадокс. Взгляд на поэзию и прозу как на некие самостоятельные конструкции, которые могут быть описаны без взаимной соотнесенности («поэзия – ритмически организованная речь, проза – обычная речь»), неожиданно приводит к невозможности разграничить эти явления. Сталкиваясь с обилием промежуточных форм, исследователь вынужден заключить, что определенной границы между стихами и прозой провести, вообще, невозможно. Б. В. Томашевский писал: «Естественнее и плодотворнее рассматривать стих и прозу не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых исторически расположились реальные факты ‹…› Законно говорить о более или менее прозаичных, более или менее стихотворных явлениях». И далее: «А так как разные люди обладают различной степенью восприимчивости к отдельным проблемам стиха и прозы, то их утверждения: «это стих», «нет, это рифмованная проза» – вовсе не так противоречат друг другу, как кажется самим спорщикам.
Из всего этого можно сделать вывод: для решения основного вопроса об отличии стиха от прозы плодотворнее изучать не пограничные явления и определять их не путем установления такой границы, быть может, мнимой; в первую очередь следует обратиться к самым типичным, наиболее выраженным формам стиха и прозы»[17 - Б. В. Томашевский. Стих и язык. – IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958, стр. 7–8.].
Приблизительно на той же точке зрения стоит и Борис Унбегаун[18 - В. Unbegaun. La versification russe. Paris, 1958.]. Исходя из представления о том, что стих – это упорядоченная, организованная, то есть «несвободная речь», он объявляет само понятие vers libre логической антиномией. К этой же точке зрения присоединяется и М. Янакиев: «Свободный стих» (vers libre) не может быть предметом стиховедения, поскольку ничем не отличается от общей речи. С другой стороны, стиховеденью следует заниматься и наибездарнейшим «несвободным стихом». М. Янакиев считает, что таким образом может быть вскрыта «пусть неумелая, но осязаемая, материальная стиховая организация»[19 - M. Янакиев. Българско стихознание. София, «Наука и искусство», 1960, стр. 10.]. Цитируя стихотворение Елизаветы Багряной «Клоун говорит», автор заключает: «Общее впечатление как от художественной прозы ‹…› Рифмованное созвучие местата ~ земята недостаточно, чтобы превратить текст в «стих». И в обыкновенной прозе время от времени встречаются подобные созвучия»[20 - Там же, стр. 214.]. Но подобная трактовка «осязаемой, материальной стиховой организации» оказывается в достаточной степени узкой. Она рассматривает только текст, понимаемый как «все, что написано». Отсутствие элемента в том случае, когда он в данной структуре невозможен и не ожидается, приравнивается к изъятию ожидаемого элемента, отказ от четкой ритмичности в эпоху до возникновения стиховой системы – к отказу от нее после. Элемент берется вне структуры и функции, знак – вне фона. Если подходить так, то vers libre, действительно, можно приравнять к прозе.
Значительно более диалектической представляется точка зрения Й. Грабака в его статье «Замечания о соотношении стиха и прозы, особенно в так называемых переходных формах». Й. Грабак исходит из представления о прозе и стихах как об оппозиционном структурном двучлене (впрочем, следовало бы оговориться, что подобное соотношение существует отнюдь не всегда, равно как не всегда можно провести разделение между структурой обычной речи и художественной прозой, чего Грабак не делает). Хотя Й. Грабак, как будто отдавая дань традиционной формулировке, пишет о прозе как о речи, «которая связана только грамматическими нормами»[21 - Josef Hrаbak. Remarque sur les corrеlations entre le vers et la prose, surtout sur les soi-disant formes de transition. – В сб.: «Poetics, Poetyka, Поэтика». Warszawa, 1966.], однако далее он исходит из того, что современное эстетическое переживание прозы и поэзии взаимно проецируются и, следовательно, невозможно не учитывать внетекстовых элементов эстетической конструкции. Совершенно по-иному ставит Й. Грабак вопрос о границе между прозой и поэзией. Считая, что в сознании читателя структура поэзии и структура прозы резко разделены, он пишет «о случаях, когда граница не только не ликвидируется, но, наоборот, приобретает наибольшую актуальность»[22 - Там же, стр. 245.]. И далее: «Чем менее в стихотворной форме элементов, которые отличают стихи от прозы, тем более ясно следует различать, что дело идет не о прозе, а именно о стихах. С другой стороны, в произведениях, написанных свободным стихом, некоторые отдельные стихи, изолированные и вырванные из контекста, могут восприниматься как проза»[23 - См.: Josef Hrаbak. ?vod do teorie verse. Praha, 1970, стр. 7 и сл.]. Именно вследствие этого граница, существующая между свободным стихом и прозой, должна быть резко различима, и именно поэтому свободный стих требует особого графического построения, чтобы быть понятым как форма стиховой речи.
Таким образом, метафизическое понятие «прием» заменяется диалектическим – «структурный элемент и его функция». А представление о границе стиха и прозы начинает связываться не только с позитивными, но и с негативными элементами структуры.
Современная молекулярная физика знает понятие «дырки», которое совсем не равнозначно простому отсутствию материи. Это – отсутствие материи в структурном положении, подразумевающем ее присутствие. В этих условиях «дырка» ведет себя настолько материально, что можно измерить ее вес, – разумеется, в отрицательных величинах. И физики закономерно говорят о «тяжелых» и «легких» дырках. С аналогичными явлениями приходится считаться и стиховеду. А из этого следует, что понятие «текст» для литературоведа оказывается значительно более сложным, чем для лингвиста. Если приравнивать его к понятию «реальная данность художественного произведения», то необходимо учитывать и «минус-приемы» – «тяжелые» и «легкие дырки» художественной структуры.
Чтобы в дальнейшем не слишком отходить от привычной терминологии, мы будем понимать под текстом нечто более привычное – всю сумму структурных отношений, нашедших лингвистическое выражение (формула «нашедших графическое выражение» не подходит, так как не покрывает понятия текста в фольклоре). Однако при таком подходе нам придется, наряду с внутритекстовыми конструкциями и отношениями, выделить внетекстовые как особый предмет исследования. Внетекстовая часть художественной структуры составляет вполне реальный (иногда очень значительный) компонент художественного целого. Конечно, она отличается большей зыбкостью, чем текстовая, более подвижна. Ясно, например, что для людей, изучавших Даяковского со школьной скамьи и принимающих его стих за эстетическую норму, внетекстовая часть его произведений представляется совсем в ином виде, чем самому автору и его первым слушателям. Текст (в узком смысле) и для современного читателя стихов Маяковского вдвинут в сложные общие структуры, внетекстовая часть его произведения существует и для современного слушателя. Но она во многом уже иная. Внетекстовые связи имеют много субъективного, вплоть до индивидуально-личного, почти не поддающегося анализу современными средствами литературоведения. Но эти связи имеют и свое закономерное, исторически и социально обусловленное, и в своей структурной совокупности вполне могут уже сейчас быть предметом рассмотрения.
Мы будем в дальнейшем рассматривать внетекстовые связи лишь частично – в их отношении к тексту. Залогом научного успеха при этом явится строгое разграничение уровней и поиски четких критериев границ доступного современному научному анализу.
Свидетельством в пользу большей сложности прозы, сравнительно со стихами, является вопрос о трудности построения порождающих моделей[24 - Порождающая модель – правила, соблюдение которых позволяет строить правильные тексты на данном языке. Построение порождающих правил в поэтике – одна из дискуссионных проблем современной науки.]. Совершенно ясно, что стиховая модель будет отличаться большей сложностью, чем общеязыковая (вторая войдет в первую), но не менее ясно, что моделировать художественный прозаический текст – задача несравненно более трудная, чем моделировать стихотворный.
Й. Грабак бесспорно прав, когда, наряду с другими стиховедами, например Б. В. Томашевским, подчеркивает значение графики для различения стихов и прозы. Графика выступает здесь не как техническое средство закрепления текста, а как сигнал структурной природы, следуя которому наше сознание «вдвигает» предлагаемый ему текст в определенную внетекстовую структуру. Можно лишь присоединиться к Й. Грабаку, когда он пишет: «Могут возразить, например, что П. Фор или М. Горький писали некоторые из своих стихов сплошь (in continuo), но в этих случаях дело шло о стихах традиционной и стабильной формы, о стихах, заключающих произносимые ритмические элементы, что исключало возможность смешения с прозой»[25 - Josef Hrаbak. ?vod do teorie verse. Praha, 1958, стр. 245.].
Природа поэзии
Итак, когда спрашивают: «Зачем нужна поэзия, если можно говорить простой прозой?» – то неверна уже сама постановка вопроса. Проза не проще, а сложнее поэзии. Зато возникает вопрос: зачем определенную информацию следует передавать средствами художественной речи? Этот же вопрос можно поставить и иначе. Если оставить в стороне другие аспекты природы искусства и говорить лишь о передаче информации, то имеет ли художественная речь некое своеобразие сравнительно с обычным языком?
Современное стиховедение представляет собой весьма разработанную область науки о литературе. Нельзя не отметить, что в основе многочисленных стиховедческих трудов, получивших международное признание, лежат исследования русской школы стиховедов, ведущей свое начало от А. Белого и В. Я. Брюсова и давшей таких ученых, как Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон, В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, М. П. Штокмар, Л. И. Тимофеев, С. М. Бонди, Г. А. Шенгели.
Традиция эта получила широкое международное развитие в трудах зарубежных ученых, в первую очередь в славянских странах – К. Тарановского, Й. Левого, М.-Р. Майеновой, Л. Пщеловской, А. Вержбицкой, И. Ворончака, З. Копчиньской и др.[26 - M. Kride. Wstep do badan nad dzielom Literackim. Wilno, 1936; Teoria badan literackich w Polsce, Opracowal H. Markiewicz. Krak?w, 1960, I–II; Endre Bojtаr. L’еcole «integraliste» polonaise. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, XII. 1970, № 1–2.].
Последнее десятилетие принесло новую активизацию стиховедческих штудий в Советском Союзе. Появились статьи А. Квятковского, В. Е. Холшевникова, П. А. Руднева, Я. Пыльдмяэ и др. Разыскания группы акад. А. Н. Колмогорова (А. Н. Кондратов, А. А. Прохоров и др.) обогатили науку рядом точных описаний метро-ритмических структур отдельных поэтов. Особенно следует выделить отличающиеся широкой семиотической перспективой работы М. Л. Гаспарова.
То, что исследование стиха, в первую очередь на низших уровнях, продвинулось столь значительно, нельзя считать случайностью. Именно эти уровни в силу отчетливой дискретности единиц, их формального характера и возможности оперировать большими для литературоведения цифрами оказались удобным полем для применения статистических методов с их хорошо разработанным математическим аппаратом. Привлечение широкого статистического материала позволило создать такие труды, как классическое исследование К. Тарановского о русских двусложных размерах[27 - Кирил Тарановски. Руски дводелни ритмови. Белград, 1953.], а применение точного математического аппарата позволило построить убедительные модели наиболее сложных ритмических структур, присущих поэзии XX века[28 - См., например: М. Л. Гаспаров. Акцентный стих раннего Маяковского. Труды по знаковым системам. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 198, 1967. Вяч. Вс. Иванов. Ритм поэмы Маяковского «Человек». – В сб.: «Poetics, Poetyka, Поэтика», II. Warszawa, 1966.].
Однако переход к следующей стадии, например опыты создания частотных словарей поэзии, убедительно показал, что при переходе к материалу высоких уровней – при резком увеличении семантичности элементов и сокращении их количества – возникает необходимость дополнения статистических методов структурными.
Дальнейшее движение вперед науки о стихе требует разработки общих проблем структуры поэтического произведения. Таким образом заполнится пустота между изучением низших стиховых уровней и также весьма разработанной проблематикой истории литературы.
Наука начинается с того, что мы, вглядываясь в привычное и, казалось бы, понятное, неожиданно открываем в нем странное и необъяснимое. Возникает вопрос, ответом на который и призвана явиться та или иная концепция. Исходным пунктом изучения стиха является сознание парадоксальности поэзии как таковой. Если бы существование поэзии не было бесспорно установленным фактом, можно было бы с достаточной степенью убедительности показать, что ее не может быть.
Исходный парадокс поэзии состоит в следующем: известно, что всякий естественный язык не представляет собой свободного от правил, то есть беспорядочного, сочетания составляющих его элементов. На их сочетаемость накладываются определенные ограничения, которые и составляют правила данного языка. Без подобных ограничений язык не может служить коммуникационным целям. Однако одновременно рост накладываемых на язык ограничений, как известно, сопровождается падением его информативности.
Поэтический текст подчиняется всем правилам данного языка. Однако на него накладываются новые, дополнительные по отношению к языку ограничения: требование соблюдать определенные метро-ритмические нормы, организованность на фонологическом, рифмовом, лексическом и идейно-композиционном уровнях. Все это делает поэтический текст значительно более «несвободным», чем обычная разговорная речь. Известно, что «из песни слова не выкинешь». Казалось бы, это должно привести к чудовищному росту избыточности в поэтическом тексте[29 - Избыточность – возможность предсказания последующих элементов текста, обусловленная ограничениями, накладываемыми на данный тип языка. Чем выше избыточность, тем меньше информативность текста.], а информационность его должна при этом резко снижаться. Если смотреть на поэзию как на обычный текст с наложенными на него дополнительными ограничениями (а с определенной точки зрения такое определение представляется вполне убедительным) или же, перефразируя ту же мысль в житейски упрощенном виде, считать, что поэт выражает те же мысли, что и обычные носители речи, накладывая на нее некоторые внешние украшения, то поэзия с очевидностью делается не только ненужной, но и невозможной – она превращается в текст с бесконечно растущей избыточностью и столь же резко сокращающейся информативностью.
Однако опыты показывают противоположное. Венгерский ученый Иван Фонодь, проводивший специальные эксперименты, пишет: «Несмотря на метр и рифму, в стихотворении Эндре Ади 60 % фонем надо было подсказывать, в опыте с газетной статьей – лишь 33 %. В стихотворении лишь 40 звуков из ста, а в газетной передовице – 67 оказались избыточными, лишенными информации. Еще выше была избыточность в беседе двух юных девушек. Здесь достаточно было 29 звуков для того, чтобы угадать остальные 71»[30 - Ivan F?nagy. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung. – В сб.: «Poetics, Poetyka, Поэтика». Warszawa, 1961, стр. 592.].
На самом деле, соотношение иное: стихотворная речь (равно как и распев, пение) была первоначально единственно возможной речью словесного искусства. Этим достигалось «расподобление» языка художественной литературы, отделение его от обычной речи. И лишь затем начиналось «уподобление»: из этого – уже относительно резко «непохожего» – материала создавалась картина действительности, средствами человеческого языка строилась модель-знак. Если язык по отношению к действительности выступал как некая воспроизводящая структура, то литература представляла собой структуру структур.
Структурный анализ исходит из того, что художественный прием – не материальный элемент текста, а отношение. Существует принципиальное различие между отсутствием рифмы в стихе, еще не подразумевающем возможности ее существования (например, античная поэзия, русский былинный стих и т. п.) или уже от нее отказавшемся, так что отсутствие рифмы входит в читательское ожидание, в эстетическую норму этого вида искусства (например, современный vers libre), с одной стороны, – и в стихе, включающем рифму в число характернейших признаков поэтического текста, – с другой. В первом случае отсутствие рифмы не является художественно значимым элементом, во втором – отсутствие рифмы есть присутствие не-рифмы, минус-рифма. В эпоху, когда читательское сознание, воспитанное на поэтической школе Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина, отождествляло романтическую поэтику с самим понятием поэзии, художественная система «Вновь я посетил…» производила впечатление не отсутствия «приемов», а максимальной их насыщенности. Но это были «минус-приемы», система последовательных и сознательных, читательски ощутимых отказов. В этом смысле в 1830 году поэтический текст, написанный по общепринятым нормам романтической поэтики, производил более «голое» впечатление, был в большей степени, чем пушкинский, лишен элементов художественной структуры.
Описательная поэтика похожа на наблюдателя, который только зафиксировал определенное жизненное явление (например, «голый человек»). Структурная поэтика всегда исходит из того, что наблюдаемый феномен – лишь одна из составляющих сложного целого. Она походит на наблюдателя, неизменно спрашивающего: «В какой ситуации?» Ясно, что голый человек в бане не равен голому человеку в общественном собрании. В первом случае отсутствие одежды – общий признак, он ничего не говорит о своеобразии данного человека. Развязанный галстук на балу – бо?льшая степень наготы, чем отсутствие одежды в бане. Статуя Аполлона в музее не выглядит голой, но попробуйте повязать ей на шею галстук, и она поразит вас своим неприличием.
Со структурной точки зрения вещественный, набранный типографскими литерами текст теряет свое абсолютное, самодовлеющее значение как единственный объект художественного анализа. Следует решительно отказаться от представления о том, что текст и художественное произведение – одно и то же. Текст – один из компонентов художественного произведения, конечно, крайне существенный компонент, без которого существование художественного произведения невозможно. Но художественный эффект в целом возникает из сопоставлений текста со сложным комплексом жизненных и идейно-эстетических представлений.
В свете сказанного и представляется возможным определить историческое соотношение поэзии и прозы[11 - Мы используем в данном случае материал истории русской литературы, но в принципе нас интересует сейчас не специфика национально-литературного развития и даже не историческая его типология, а теоретический вопрос соотнесения поэзии и прозы.].
Прежде всего, следует отметить, что многочисленные нестихотворные жанры в фольклоре и русской средневековой литературе в принципе отличаются от прозы XIX столетия. Употребление в данном случае общих терминов – лишь результат диффузности понятий в нашей науке.
Это – жанры, которые не противостоят поэзии, поскольку развиваются до ее возникновения. Они не образовывали с поэзией контрастной двуединой пары и воспринимались вне связи с ней. Стихотворные жанры фольклора не противостоят прозаическим жанрам, а просто с ними не соотносятся, поскольку воспринимаются не как две разновидности одного искусства, а как разные искусства – песенное и разговорное. Совершенно отлично от прозы XIX века, ввиду отсутствия соотнесенности с поэзией, отношение фольклорных и средневековых «прозаических» жанров к разговорной речи. Проза XIX века противопоставлена поэтической речи, воспринимаемой как «условная», «неестественная», и движется к разговорной стихии. Процесс этот – лишь одна из сторон эстетики, подразумевающей, что сходство с жизнью, движение к действительности – цель искусства.
«Проза» в фольклоре и средневековой литературе живет по иным законам: она только что родилась из недр общеразговорной стихии и стремится от нее отделиться. На этой стадии развития литературы рассказ о действительности еще не воспринимается как искусство. Так, летопись не переживалась читателями и летописцами как художественный текст, в нашем наполнении этого понятия.
Структурные элементы: архаизация языка в житийной литературе, фантастическая необычность сюжета волшебной сказки, подчеркнутая условность повествовательных приемов, строгое следование жанровому ритуалу – создают облик стиля, сознательно ориентированного на отличие от стихии «обычного языка».
Не касаясь сложного вопроса о месте прозы в литературе XVIII – начала XIX века, отметим лишь, что, каково бы ни было реальное положение вещей, литературная теория той эпохи третировала роман и другие прозаические жанры как низшие разновидности искусства. Проза все еще то сливалась с философской и политической публицистикой, воспринимаясь как жанр, выходящий за пределы изящной словесности[12 - Показательно, что критика пушкинской эпохи высшими достижениями прозы начала 1820-х годов считала «Историю государства российского» Карамзина, «Опыт теории налогов» Н. Тургенева и «Опыт теории партизанского действия» Д. Давыдова.], то считалась чтивом, рассчитанным на нетребовательного и эстетически невоспитанного читателя.
Проза в современном значении слова возникает в русской литературе с Пушкина. Она соединяет одновременно представление об искусстве высоком и о не-поэзии. За этим стоит эстетика «жизни действительной» с ее убеждением, что источник поэзии – реальность. Таким образом, эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь на фоне поэтической культуры. Проза – явление более позднее, чем поэзия, возникшее в эпоху хронологически более зрелого эстетического сознания. Именно потому, что проза эстетически вторична по отношению к поэзии и воспринимается на ее фоне, писатель может смело сближать стиль прозаического художественного повествования с разговорной речью, не боясь, что читатель утратит чувство того, что имеет дело не с действительностью, а с ее воссозданием. Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту и близость к обычной речи, проза эстетически сложнее поэзии, а ее простота вторична. Разговорная речь действительно равняется тексту, художественная проза = текст + «минус-приемы» поэтически условной речи. И снова приходится заметить, что в данном случае прозаическое литературное произведение не равно тексту: текст – лишь одна из образующих сложной художественной структуры.
В дальнейшем возможно складывание художественных нормативов, позволяющих воспринимать прозу как самостоятельное художественное образование – вне соотношения ее с поэтической культурой. В определенные моменты литературного развития складывается даже обратное отношение: поэзия начинает восприниматься на фоне прозы, которая выполняет роль нормы художественного текста.
В связи с этим уместно отметить, что в свете структурного анализа художественная простота раскрывается как нечто противоположное примитивности. Отнюдь не любовь к парадоксам заставляет утверждать, что художественная простота сложнее, чем художественная сложность, ибо возникает как упрощение последней и на ее фоне. Таким образом, анализ художественных структур словесного искусства естественно начинать с поэзии как наиболее элементарной системы, как системы, чьи элементы в значительной мере получают выражение в тексте, а не реализуются в качестве «минус-приемов». При анализе поэтического произведения внетекстовые связи и отношения играют меньшую роль, чем в прозе.
Исследовательский путь от поэзии к прозе как более сложной структуре повторяет историческое движение реального литературного процесса, который дает нам сначала поэтическую структуру, заполняющую собой весь объем понятия «словесное искусство» и контрастно соотнесенную (по принципу выделения) с фоном, куда входят разговорная и все виды письменной нехудожественной (с точки зрения человека той поры) речи.
Следующим этапом является вытеснение поэзии прозой. Проза стремится стать синонимом понятия литературы и проецируется на два фона: поэзию предшествующего периода – по принципу контраста – и «обычную» нехудожественную речь в качестве предела, к которому стремится (не сливаясь с ней) структура литературного произведения.
В дальнейшем поэзия и проза выступают как две самостоятельные, но соотнесенные художественные системы. Понятие простоты в искусстве значительно более всеобъемлюще, чем понятие прозы. Оно шире даже, чем такое литературоведческое обобщение как «реализм». Определение простоты произведения искусства представляет большие трудности. И все же в рабочем порядке оно необходимо для выявления специфики прозы. При этом весьма существенна оценочная сторона вопроса.
Необходимо отметить, что представление о простоте как синониме художественного достоинства появилось в искусстве весьма поздно. Произведения древнерусской литературы, поражающие нас своей простотой, совсем не казались такими современникам. Кирилл Туровский считал, что «летописцы и песнотворцы» «прислушиваются к рассказам» обычных людей, чтобы пересказать их потом «в изящной речи» и «возвеличить похвалами»[13 - «Творения (…) Кирилла Туровского». Киев, 1880, стр. 60.], а Даниил Заточник так изображает процесс художественного творчества: «Вострубим убо братие, аки в златокованную трубу, в разум ума своего и начнем бити в сребреные арганы во известие мудрости, и ударим в бубны ума своего»[14 - Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII веков и их переделкам. Л., Изд. АН СССР, 1932, стр. 7.]. Представление об «украшенности» как необходимом знаке того, чтобы искусство воспринималось именно как искусство (как нечто «сделанное» – модель), присуще многим исторически ранним художественным методам. Это же применимо и к истории возрастного развития: для ребенка «красиво» и «украшено» почти всегда совпадает. Ту же черту можно отметить и в современном эстетически неразвитом «взрослом» вкусе, который всегда рассматривает красоту и пышность как синонимы. (Из сказанного, конечно, нельзя вывести обратного силлогизма о том, что всякая пышность уже сама по себе – свидетельство эстетической невоспитанности.)
Понимание простоты как эстетической ценности приходит на следующем этапе и неизменно связано с отказом от украшенности. Ощущение простоты искусства возможно лишь на фоне искусства «украшенного», память о котором присутствует в сознании зрителя-слушателя. Для того чтобы простое воспринималось именно как простое, а не как примитивное, нужно, чтобы оно было упрощенным, то есть чтобы художник сознательно не употреблял определенные элементы построения, а зритель-слушатель проецировал его текст на фон, в котором эти «приемы» были бы реализованы. Таким образом, если «украшенная» («сложная») структура реализуется главным образом в тексте, то «простая» – в значительной степени за его пределами, воспринимаясь как система «минус-приемов», нематериализованных отношений (эта «нематериализованная» часть вполне реальна и в философском, а не бытовом значении слова – вполне материальна, входит в материю структуры произведения). Следовательно, в структурном отношении простота – явление значительно более сложное, чем «украшенность». В том, что сказанное – не парадокс, а истина, убедится каждый, кто, например, займется анализом прозы Марлинского или Гюго, с одной стороны, и Чехова и Мопассана – с другой. (В данном случае речь идет не о сравнительном художественном качестве, а о том, что изучить художественную природу произведения в первом случае, конечно, значительно легче.)
Но отсюда же вытекает и то, что понятие «простоты», типологически вторичное, исторически очень подвижно, зависит от системы, на которую проецируется. Понятно, например, что мы, невольно проецируя творчество Пушкина на уже известную нам реалистическую традицию от Гоголя до Чехова, воспринимаем «простоту» Пушкина иначе, чем его современники.
Для того чтобы ввести понятие простоты в определенные измеримые границы, придется определить еще один, тоже внетекстовой, компонент. Если в свете сказанного выше простота выступает как «не-сложность» – отказ от выполнения определенных принципов («простота «сложность» – двуединая оппозиционная пара), то вместе с тем создание «простого произведения» (как и всякого другого) есть одновременно стремление к выполнению некоторых принципов (реализация замысла может рассматриваться как интерпретация определенной абстрактной модели моделью более конкретного уровня). Вне учета отношения текста художественного произведения к этой идеальной модели простоты (куда войдут и такие понятия, как, например, «граница возможностей искусства») сущность его останется непонятной. Не только «простота» неореалистического итальянского фильма, но и «простота» некрасовского метода была бы, вероятно, для Пушкина вне пределов искусства.
Из сказанного ясно, что искусственно моделировать «сложные» формы искусства будет значительно более просто, чем простые.
В истории литературы параллель между прозой и художественной простотой проводилась неоднократно.
«Точность и краткость – вот первые достоинства прозы, – писал Пушкин, критикуя школу Карамзина. – Она (проза. – Ю. Л.) требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат»[15 - А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд. АН СССР, стр. 19.].
Белинский, определивший в «Литературных мечтаниях» господство школы Карамзина как «век фразеологии», в обзоре «Русская литература в 1842 г.» прямо поставил знак равенства между терминами «проза», «богатство содержания» и понятием художественного реализма.
«И что бы, вы думали, убило наш добрый и невинный романтизм ‹…›? Проза! Да, проза, проза и проза ‹…›. Мы под «стихами» разумеем здесь не одни размеренные и заостренные рифмою строчки ‹…› Так, например, «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» Пушкина – настоящие стихи; «Онегин», «Цыганы», «Полтава», «Борис Годунов» – уже переход к прозе, а такие поэмы, как «Сальери и Моцарт», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Галуб», «Каменный гость», – уже чистая беспримесная проза, где уже совсем нет стихов, хотя эти поэмы писаны и стихами ‹…› мы под «прозою» разумеем богатство внутреннего поэтического содержания, мужественную зрелость и крепость мысли, сосредоточенную в самой себе силу чувства, верный такт действительности»[16 - В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI. М., Изд. АН СССР, 1955, стр. 523.].
Сказанное Пушкиным и Белинским нельзя отнести к числу случайных сцеплений понятий – оно отражает основу эстетического переживания прозы. Понятие простоты бесконечно шире понятия прозы, но возвести прозу в ранг художественных явлений оказалось возможным только тогда, когда выработалось представление о простоте как основе художественного достоинства. Исторически и социально обусловленное понятие простоты сделало возможным создание моделей действительности в искусстве, определенные элементы которых реализовывались как «минус-приемы».
Художественная проза возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание.
Подобное понимание отношения поэзии и прозы позволяет диалектически взглянуть на проблему границы этих явлений и эстетическую природу пограничных форм типа vers libre. Здесь складывается любопытный парадокс. Взгляд на поэзию и прозу как на некие самостоятельные конструкции, которые могут быть описаны без взаимной соотнесенности («поэзия – ритмически организованная речь, проза – обычная речь»), неожиданно приводит к невозможности разграничить эти явления. Сталкиваясь с обилием промежуточных форм, исследователь вынужден заключить, что определенной границы между стихами и прозой провести, вообще, невозможно. Б. В. Томашевский писал: «Естественнее и плодотворнее рассматривать стих и прозу не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых исторически расположились реальные факты ‹…› Законно говорить о более или менее прозаичных, более или менее стихотворных явлениях». И далее: «А так как разные люди обладают различной степенью восприимчивости к отдельным проблемам стиха и прозы, то их утверждения: «это стих», «нет, это рифмованная проза» – вовсе не так противоречат друг другу, как кажется самим спорщикам.
Из всего этого можно сделать вывод: для решения основного вопроса об отличии стиха от прозы плодотворнее изучать не пограничные явления и определять их не путем установления такой границы, быть может, мнимой; в первую очередь следует обратиться к самым типичным, наиболее выраженным формам стиха и прозы»[17 - Б. В. Томашевский. Стих и язык. – IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958, стр. 7–8.].
Приблизительно на той же точке зрения стоит и Борис Унбегаун[18 - В. Unbegaun. La versification russe. Paris, 1958.]. Исходя из представления о том, что стих – это упорядоченная, организованная, то есть «несвободная речь», он объявляет само понятие vers libre логической антиномией. К этой же точке зрения присоединяется и М. Янакиев: «Свободный стих» (vers libre) не может быть предметом стиховедения, поскольку ничем не отличается от общей речи. С другой стороны, стиховеденью следует заниматься и наибездарнейшим «несвободным стихом». М. Янакиев считает, что таким образом может быть вскрыта «пусть неумелая, но осязаемая, материальная стиховая организация»[19 - M. Янакиев. Българско стихознание. София, «Наука и искусство», 1960, стр. 10.]. Цитируя стихотворение Елизаветы Багряной «Клоун говорит», автор заключает: «Общее впечатление как от художественной прозы ‹…› Рифмованное созвучие местата ~ земята недостаточно, чтобы превратить текст в «стих». И в обыкновенной прозе время от времени встречаются подобные созвучия»[20 - Там же, стр. 214.]. Но подобная трактовка «осязаемой, материальной стиховой организации» оказывается в достаточной степени узкой. Она рассматривает только текст, понимаемый как «все, что написано». Отсутствие элемента в том случае, когда он в данной структуре невозможен и не ожидается, приравнивается к изъятию ожидаемого элемента, отказ от четкой ритмичности в эпоху до возникновения стиховой системы – к отказу от нее после. Элемент берется вне структуры и функции, знак – вне фона. Если подходить так, то vers libre, действительно, можно приравнять к прозе.
Значительно более диалектической представляется точка зрения Й. Грабака в его статье «Замечания о соотношении стиха и прозы, особенно в так называемых переходных формах». Й. Грабак исходит из представления о прозе и стихах как об оппозиционном структурном двучлене (впрочем, следовало бы оговориться, что подобное соотношение существует отнюдь не всегда, равно как не всегда можно провести разделение между структурой обычной речи и художественной прозой, чего Грабак не делает). Хотя Й. Грабак, как будто отдавая дань традиционной формулировке, пишет о прозе как о речи, «которая связана только грамматическими нормами»[21 - Josef Hrаbak. Remarque sur les corrеlations entre le vers et la prose, surtout sur les soi-disant formes de transition. – В сб.: «Poetics, Poetyka, Поэтика». Warszawa, 1966.], однако далее он исходит из того, что современное эстетическое переживание прозы и поэзии взаимно проецируются и, следовательно, невозможно не учитывать внетекстовых элементов эстетической конструкции. Совершенно по-иному ставит Й. Грабак вопрос о границе между прозой и поэзией. Считая, что в сознании читателя структура поэзии и структура прозы резко разделены, он пишет «о случаях, когда граница не только не ликвидируется, но, наоборот, приобретает наибольшую актуальность»[22 - Там же, стр. 245.]. И далее: «Чем менее в стихотворной форме элементов, которые отличают стихи от прозы, тем более ясно следует различать, что дело идет не о прозе, а именно о стихах. С другой стороны, в произведениях, написанных свободным стихом, некоторые отдельные стихи, изолированные и вырванные из контекста, могут восприниматься как проза»[23 - См.: Josef Hrаbak. ?vod do teorie verse. Praha, 1970, стр. 7 и сл.]. Именно вследствие этого граница, существующая между свободным стихом и прозой, должна быть резко различима, и именно поэтому свободный стих требует особого графического построения, чтобы быть понятым как форма стиховой речи.
Таким образом, метафизическое понятие «прием» заменяется диалектическим – «структурный элемент и его функция». А представление о границе стиха и прозы начинает связываться не только с позитивными, но и с негативными элементами структуры.
Современная молекулярная физика знает понятие «дырки», которое совсем не равнозначно простому отсутствию материи. Это – отсутствие материи в структурном положении, подразумевающем ее присутствие. В этих условиях «дырка» ведет себя настолько материально, что можно измерить ее вес, – разумеется, в отрицательных величинах. И физики закономерно говорят о «тяжелых» и «легких» дырках. С аналогичными явлениями приходится считаться и стиховеду. А из этого следует, что понятие «текст» для литературоведа оказывается значительно более сложным, чем для лингвиста. Если приравнивать его к понятию «реальная данность художественного произведения», то необходимо учитывать и «минус-приемы» – «тяжелые» и «легкие дырки» художественной структуры.
Чтобы в дальнейшем не слишком отходить от привычной терминологии, мы будем понимать под текстом нечто более привычное – всю сумму структурных отношений, нашедших лингвистическое выражение (формула «нашедших графическое выражение» не подходит, так как не покрывает понятия текста в фольклоре). Однако при таком подходе нам придется, наряду с внутритекстовыми конструкциями и отношениями, выделить внетекстовые как особый предмет исследования. Внетекстовая часть художественной структуры составляет вполне реальный (иногда очень значительный) компонент художественного целого. Конечно, она отличается большей зыбкостью, чем текстовая, более подвижна. Ясно, например, что для людей, изучавших Даяковского со школьной скамьи и принимающих его стих за эстетическую норму, внетекстовая часть его произведений представляется совсем в ином виде, чем самому автору и его первым слушателям. Текст (в узком смысле) и для современного читателя стихов Маяковского вдвинут в сложные общие структуры, внетекстовая часть его произведения существует и для современного слушателя. Но она во многом уже иная. Внетекстовые связи имеют много субъективного, вплоть до индивидуально-личного, почти не поддающегося анализу современными средствами литературоведения. Но эти связи имеют и свое закономерное, исторически и социально обусловленное, и в своей структурной совокупности вполне могут уже сейчас быть предметом рассмотрения.
Мы будем в дальнейшем рассматривать внетекстовые связи лишь частично – в их отношении к тексту. Залогом научного успеха при этом явится строгое разграничение уровней и поиски четких критериев границ доступного современному научному анализу.
Свидетельством в пользу большей сложности прозы, сравнительно со стихами, является вопрос о трудности построения порождающих моделей[24 - Порождающая модель – правила, соблюдение которых позволяет строить правильные тексты на данном языке. Построение порождающих правил в поэтике – одна из дискуссионных проблем современной науки.]. Совершенно ясно, что стиховая модель будет отличаться большей сложностью, чем общеязыковая (вторая войдет в первую), но не менее ясно, что моделировать художественный прозаический текст – задача несравненно более трудная, чем моделировать стихотворный.
Й. Грабак бесспорно прав, когда, наряду с другими стиховедами, например Б. В. Томашевским, подчеркивает значение графики для различения стихов и прозы. Графика выступает здесь не как техническое средство закрепления текста, а как сигнал структурной природы, следуя которому наше сознание «вдвигает» предлагаемый ему текст в определенную внетекстовую структуру. Можно лишь присоединиться к Й. Грабаку, когда он пишет: «Могут возразить, например, что П. Фор или М. Горький писали некоторые из своих стихов сплошь (in continuo), но в этих случаях дело шло о стихах традиционной и стабильной формы, о стихах, заключающих произносимые ритмические элементы, что исключало возможность смешения с прозой»[25 - Josef Hrаbak. ?vod do teorie verse. Praha, 1958, стр. 245.].
Природа поэзии
Итак, когда спрашивают: «Зачем нужна поэзия, если можно говорить простой прозой?» – то неверна уже сама постановка вопроса. Проза не проще, а сложнее поэзии. Зато возникает вопрос: зачем определенную информацию следует передавать средствами художественной речи? Этот же вопрос можно поставить и иначе. Если оставить в стороне другие аспекты природы искусства и говорить лишь о передаче информации, то имеет ли художественная речь некое своеобразие сравнительно с обычным языком?
Современное стиховедение представляет собой весьма разработанную область науки о литературе. Нельзя не отметить, что в основе многочисленных стиховедческих трудов, получивших международное признание, лежат исследования русской школы стиховедов, ведущей свое начало от А. Белого и В. Я. Брюсова и давшей таких ученых, как Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон, В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, М. П. Штокмар, Л. И. Тимофеев, С. М. Бонди, Г. А. Шенгели.
Традиция эта получила широкое международное развитие в трудах зарубежных ученых, в первую очередь в славянских странах – К. Тарановского, Й. Левого, М.-Р. Майеновой, Л. Пщеловской, А. Вержбицкой, И. Ворончака, З. Копчиньской и др.[26 - M. Kride. Wstep do badan nad dzielom Literackim. Wilno, 1936; Teoria badan literackich w Polsce, Opracowal H. Markiewicz. Krak?w, 1960, I–II; Endre Bojtаr. L’еcole «integraliste» polonaise. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, XII. 1970, № 1–2.].
Последнее десятилетие принесло новую активизацию стиховедческих штудий в Советском Союзе. Появились статьи А. Квятковского, В. Е. Холшевникова, П. А. Руднева, Я. Пыльдмяэ и др. Разыскания группы акад. А. Н. Колмогорова (А. Н. Кондратов, А. А. Прохоров и др.) обогатили науку рядом точных описаний метро-ритмических структур отдельных поэтов. Особенно следует выделить отличающиеся широкой семиотической перспективой работы М. Л. Гаспарова.
То, что исследование стиха, в первую очередь на низших уровнях, продвинулось столь значительно, нельзя считать случайностью. Именно эти уровни в силу отчетливой дискретности единиц, их формального характера и возможности оперировать большими для литературоведения цифрами оказались удобным полем для применения статистических методов с их хорошо разработанным математическим аппаратом. Привлечение широкого статистического материала позволило создать такие труды, как классическое исследование К. Тарановского о русских двусложных размерах[27 - Кирил Тарановски. Руски дводелни ритмови. Белград, 1953.], а применение точного математического аппарата позволило построить убедительные модели наиболее сложных ритмических структур, присущих поэзии XX века[28 - См., например: М. Л. Гаспаров. Акцентный стих раннего Маяковского. Труды по знаковым системам. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 198, 1967. Вяч. Вс. Иванов. Ритм поэмы Маяковского «Человек». – В сб.: «Poetics, Poetyka, Поэтика», II. Warszawa, 1966.].
Однако переход к следующей стадии, например опыты создания частотных словарей поэзии, убедительно показал, что при переходе к материалу высоких уровней – при резком увеличении семантичности элементов и сокращении их количества – возникает необходимость дополнения статистических методов структурными.
Дальнейшее движение вперед науки о стихе требует разработки общих проблем структуры поэтического произведения. Таким образом заполнится пустота между изучением низших стиховых уровней и также весьма разработанной проблематикой истории литературы.
Наука начинается с того, что мы, вглядываясь в привычное и, казалось бы, понятное, неожиданно открываем в нем странное и необъяснимое. Возникает вопрос, ответом на который и призвана явиться та или иная концепция. Исходным пунктом изучения стиха является сознание парадоксальности поэзии как таковой. Если бы существование поэзии не было бесспорно установленным фактом, можно было бы с достаточной степенью убедительности показать, что ее не может быть.
Исходный парадокс поэзии состоит в следующем: известно, что всякий естественный язык не представляет собой свободного от правил, то есть беспорядочного, сочетания составляющих его элементов. На их сочетаемость накладываются определенные ограничения, которые и составляют правила данного языка. Без подобных ограничений язык не может служить коммуникационным целям. Однако одновременно рост накладываемых на язык ограничений, как известно, сопровождается падением его информативности.
Поэтический текст подчиняется всем правилам данного языка. Однако на него накладываются новые, дополнительные по отношению к языку ограничения: требование соблюдать определенные метро-ритмические нормы, организованность на фонологическом, рифмовом, лексическом и идейно-композиционном уровнях. Все это делает поэтический текст значительно более «несвободным», чем обычная разговорная речь. Известно, что «из песни слова не выкинешь». Казалось бы, это должно привести к чудовищному росту избыточности в поэтическом тексте[29 - Избыточность – возможность предсказания последующих элементов текста, обусловленная ограничениями, накладываемыми на данный тип языка. Чем выше избыточность, тем меньше информативность текста.], а информационность его должна при этом резко снижаться. Если смотреть на поэзию как на обычный текст с наложенными на него дополнительными ограничениями (а с определенной точки зрения такое определение представляется вполне убедительным) или же, перефразируя ту же мысль в житейски упрощенном виде, считать, что поэт выражает те же мысли, что и обычные носители речи, накладывая на нее некоторые внешние украшения, то поэзия с очевидностью делается не только ненужной, но и невозможной – она превращается в текст с бесконечно растущей избыточностью и столь же резко сокращающейся информативностью.
Однако опыты показывают противоположное. Венгерский ученый Иван Фонодь, проводивший специальные эксперименты, пишет: «Несмотря на метр и рифму, в стихотворении Эндре Ади 60 % фонем надо было подсказывать, в опыте с газетной статьей – лишь 33 %. В стихотворении лишь 40 звуков из ста, а в газетной передовице – 67 оказались избыточными, лишенными информации. Еще выше была избыточность в беседе двух юных девушек. Здесь достаточно было 29 звуков для того, чтобы угадать остальные 71»[30 - Ivan F?nagy. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung. – В сб.: «Poetics, Poetyka, Поэтика». Warszawa, 1961, стр. 592.].