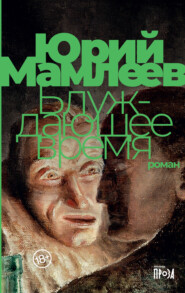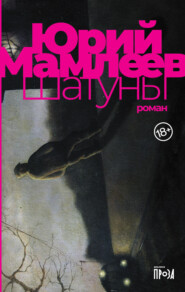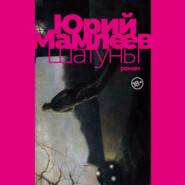По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений. Том 1. Шатуны. Южинский цикл. Рассказы 60 – 70-х годов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Похоронная процессия с пустым гробом тронулась с места; дед Коля выпучил глаза, но ноги плохо слушались его, заворачивая в сторону. С грехом пополам спустились во двор. За воротами шумели люди. Девочка Мила, осматриваясь, была при гробе. Надо было идти вперед, к людям. Но дед Коля от страху рванулся в сторону; у него возникло желание тут же выбросить гроб на помойку, а самому убежать бог знает куда, – далеко, далеко.
Но старушка Мавка так цепко впилась в гроб, а ногами уцепилась в землю, что дед Коля не мог ее оторвать. Тогда у него возникло желание самому впрыгнуть в гроб, и чтоб Мила и старушка Мавка его несли, дальше, вперед, к могиле. А он бы размахивал руками и кричал в небо… Кувырнувшись, дед Коля, как пловец, нырнул в гроб. Гроб перевернулся, старушка Мавка упала, дед Коля встал чуть не вниз головой, а Мила все еще осматривалась. Они были все втроем, одинокие, на лужайке, около кувыркающегося гроба. Тем временем ворота понемногу поддавались напору нетерпеливых любителей смерти… И вдруг взгляд деда Коли приковал куро-труп, выскочивший из своего сарая. Он криво бежал, кудахтая, к одинокому, бревенчатому строеньицу вроде деревенской баньки, которое приютилось в стороне за кустами и принадлежало Клаве.
В крике куро-трупа было нечто мертво-любопытствующее, и дед Коля, почувствовав разрешение, как юркий идол, запрыгал за ним…
А дело было вот в чем. Этой ночью, после двенадцати, Падов проснулся, и что-то заставило его заглянуть в окно. Во дворе – при свете луны – увидел такую картину. Клавуша, выпятив брюхо, везла что-то на тачке. Это «что-то» был – вне всякого сомнения – труп себяеда Петеньки. Худая рука выдавалась как острие шпаги. Падов вспомнил, что – по Анниным рассказам – на половину Фомичевых ведет тайный ход. Значит, Клавуша несомненно им воспользовалась, чтобы уволочь Петю.
«Но зачем ей труп и куда она его тащит?!» – подумал он. Увидев, что Клавуша с трудом подвезла труп к бревенчатой баньке, Толя тихо спустился вниз.
Ни Клавуши, ни трупа уже не было видно, – только тачка стояла у входа, в стороне. Падов долго не решался подойти. Наконец, плюнув, он подобрался к двери и, толкнув ее, заглянул. Он ожидал все что угодно – слезливого труположества, минета с мертвым членом, чудовищных ласк, но не этого.
Клавуша мирно сидела – задницей в ногах трупа, при свечах – и аппетитно поедала шоколадно-пирожные торты, которые она один за другим уставила на мертвеце. Падов завопил, но Клавуша, обернув к нему свое добродушно-зажравшееся, в белом креме на губах, лицо, проговорила:
– Заходите, заходите, Толюшка, сейчас вместе покушаем.
– Но почему на трупе?!! – вскричал Падов.
– Да Петенька сам шоколадный. Он у меня и есть самый главный торт. Самый вкусный, – убежденно проговорила Клавуша, облизываясь и оглядывая Падова своими обычными пьяно-убежденными глазками.
Падов вошел.
Банька была темна, но свечи хорошо вырывали из тьмы труп с шоколадными тортами.
– Лакомьтесь, лакомьтесь! – утробно пробурчала Клавуша. Падов присел. Клавуша обмакнула пальцы в рот, прошлась по трупу и потом стала их облизывать. На Падова она не обращала никакого внимания. Почему-то вдруг Толя понял, что она действительно принимает труп за шоколадный торт.
«Но почему она не ест Петеньку буквально?» – подумал тогда он.
Очевидно, Клава отличала «сущность» от эмпирического значения вещи и инстинктивно не путала их. Таким образом, принимая в душе и реально Петеньку за торт, по-видимости, она ела все-таки обычные торты, хотя в сознании кушала трупо-торт. Интуитивно Падов понял это, когда он, сжавшись и мысленно подхихикивая, целые полчаса вглядывался в поведение Клавуши. Понял и возликовал. Клавуша между тем, беззаботно пощекотав труп за нос, уселась прямо на живот, очевидно, желая утонуть в пирожном.
В дверь баньки тихо постучали. Падов вздрогнул. «Свои», – послышался шепот. В щели бесшумно появились Ремин и Анна. Оказывается, Падов разбудил Аннулю, и произошла цепная реакция. После объяснений, напоминающих бормотание в стене, все уселись вокруг трупа. Ремин вынул неизменную бутылку.
– Водицы достали, Гена, – промолвила Клавуша. – Ну, балуйтесь, балуйтесь, – и сняла носки…
Такими их и застал наутро дед Коля. Хрякнув, он понимающе улыбнулся. Куро-трупа, оказывается, привлекла тачка, и он метался вокруг нее. Все остальное произошло так, как будто ничего особенного не случилось. С помощью Гены и Падова труп выволокли наружу. Но здесь-то ворота и поддались напору обывателей, и их взору предстала такая картина: гроб валялся в стороне, вокруг него кудахтала старушка Мавка, а труп волокли за волосы к гробу.
Обыватели онемели, но толстое, сельское начальство сообразило.
– Небось жирок на мыло или еще для какой надобности выжимали, – протрубило оно, полушутя.
Обыватели вдруг рассмеялись, и дело было как-то сразу улажено.
– Мы от организации тут венки принесли, – пробасило начальство, – чтоб был порядок.
Все приняло стройный вид; Петенька в гробу и все остальные двинулись. Дед Коля помахал Клавуше кепкой.
X
Вернулся с кладбища дед Коля совсем расстроенный. И все время его куда-то тянуло: то вверх забраться на дерево, то вперед – в пространство… Вынес кой-какие вещички из дома на двор и связал узелочком. Точно куда-то собирался. И действительно, тоска заела его. Присел на бревнышко покурить и «поговорить» с куро-трупом. Куро-труп сидел нахохлившись, как высеченная из дерева курица. Сплевывая махорку, дед Коля говорил:
– Уеду я отсюда, уеду… Сил моих нет на таком месте жить.
– Ко-ко-ко, – деревянно отвечал куро-труп.
Но желание деда неожиданно наткнулось на сопротивление единственно оставшейся в живых дитяти – девочки Милы.
Пока в сонновско-фомичевском доме Петенька пожирал себя, приближаясь к смерти, еще одна тихая, почтенная история разыгралась в углу: девочка Мила влюбилась в старичка Михея.
Как это могло случиться? Ведь девочка, видя, ничего не видела. Но зато ей многое было дано. Зародилось это, когда Михей сидел на бревнышке и по своему обыкновению, обнажив пустое место, смотрел, как поганая кошка лижет его. Михею очень хотелось, чтобы им гнушались даже помоечные коты, но пока он еще был далек от этого. В этот момент у Милы в глазах что-то дрогнуло. Сначала она, как обычно, ясно видела формальную сторону действительности, но так, что у нее не было внутреннего ощущения, что она ее видит. И вдруг в точке, где ей виделся Михей, которого она в то же время виденеощущала, ей почудилось пение, и пред внутренним взором своим она увидела черное пятно, которое вызвало у нее представление о розе. Улыбнувшись, она захлопала в ладоши и как козочка подбежала к Михею. Оттолкнув ногой поганую кошку, она упала на колени и стала лизать пустое место. Михей насторожился. Его ушки полуотсутствующего старичка задвигались, и нос покраснел. Он никак не мог связать этот факт со своим умом и только кокетливо поводил нижней частью туловища. Игорек, один видевший эту сценку, зааплодировал.
С тех пор началось.
И все в тайных уголках, по невиданным закуткам, за бревнышками. Затерянный взгляд Милы стал проникать в туманные миры, которые прочно соотносились у нее с Михеем, точнее, с его пустым местом. Иногда она видела черное пятно и – давешнее пение. Временами из черного пятна доносился вой. Порой, только заметив Михея, она чувствовала далекое движение чего-то иного, прекрасного и смрадного, и оно отпечатывалось в ее глазах легкой блесткой, переходящей в сознание. Но это движение, эта искра трансцендентного вызывала у нее явный сексуальный интерес. В уме ее тогда сгибались розы, внизу дрожали колени, и она шла навстречу Михею. Михей так и не смог связать ее появление с чем-нибудь определенным и только щерился от непонятности.
То ему хотелось, чтоб им гнушались, то, напротив, он блаженно связывал ее – Милу – с какой-то своей загадкой. Поэтому поначалу он, как волкодав среди цветов, сторонился ее, поворачиваясь к ней боком. Только иногда рычал, отыскивая глазами щель в небе. Но в конце концов сдавался. Вялым движением, оглядывая пространство единым взглядом, обнажал пустое место. Милочка опускалась на колени, и все ее лицо было точно усеяно небесными каплями. Иногда, впрочем, появлялись черные, провальные пятна. Особенно чернел язык… Эти минеты с отсутствующим членом Михея совсем придавали ей детски-обморочный вид. «Далеко, далеко пойдет дочка», – бормотал Михей. В таком-то состоянии и находились они, когда дед Коля задумал бежать из Лебединого. Но Милу было не так-то просто оторвать от Михея. Дед Коля стучал кастрюлями, швырялся бельем, пел песни. Милочка же своими тоненькими изощренно-пустыми пальчиками словно держалась за неприсутствующее тело Михея. Разрядил обстановку Федор – он мельком, краем существа, заметил полный уход от себя своего «друга».
«Не тем, не тем занялся дедушка», – втайне промычал Федор на Михея.
Вскоре Михей исчез из его поля сознания, «дружба» сама собой кончилась, а «человечины» Федор – хоть и мимоходом – не мог выносить. Поэтому, когда он один раз просто так погрозил Михею поленом, Михей вдруг струсил. Дело в том, что теперь, после лизаний пустым местом с Милочкой, у него неожиданно появился интерес к жизни и желание продлить свое существование. Он стал пугливей, озабоченней, хотя все это присутствовало как бы само по себе, совершенно независимо от сохраняющейся прежней «потусторонности». Возможно, интерес вызывался чудовищной формой общения… За один час Михей прытко уговорил Милу бежать из Лебединого, при условии, что он поедет вместе с ней.
Основные вещи вывезли с вечера, а рано утром три нездешне-уродливые фигуры, нагруженные узелками, выходили из ворот сонновского дома: одна – деда Коли – несмотря на тяжесть, радостно подпрыгивающая; другая – Милы – нелепо-отсутствующая; третья – Михея – важно-сосредоточенная, как будто он шел в церковь…
Елейно-жуткое лицо Клавуши улыбалось им из окна…
XI
Между тем Падов погряз в интересе к Клавуше. Одновременно собственная тоска мучила его. Теперь на него нашло странное состояние, которое для начала можно охарактеризовать как комплекс неполноценности пред Высшими Иерархиями. Иногда он подразумевал под этими Иерархиями сознание Ангелов, иногда у него были собственные догадки относительно существования неведомых доселе Высших Нечеловеческих Духов.
Бывало, присядет Толя где-нибудь на завалинке и, поглаживая животик, задумается. О Высшем. И пытается проникнуть в «неизвестное сознание».
И когда Толя занимался подобными операциями, настроение у него было порой взвизго-приподнятое, так как, углубляясь в этот молниеносный гнозис, он вызывал к себе искры неведомой, зачеловеческой духовности… И это ласкало его гордость.
Но теперь тупая придавленность овладела им.
В уме все время мелькало, что настоящее Высшее – то, о чем нельзя задать даже вопроса, а все, о чем можно было поставить вопрос хотя бы путем усилий, хотя бы мимолетно – все рядом и не так уж высоко. И все равно, как бы он ни изощрялся, он останется ничтожным пред непостижимо-высшим, по крайней мере в данный момент.
Конечно, высшие иерархии не предстояли непосредственно, даже сам факт их существования отнюдь не был ясным, но воображение точно срывалось с цепи и рисовало картину одну пикантнее другой…
«Здесь мы страдаем от насилия со стороны низших существ, – завыл он однажды в уме, опустившись на травку, – зато мы сознаем свое глубокое превосходство над всеми, «здесь» мы – соль земли и неба; а «там», «там», хоть наше превосходство над низшими станет объективизированным, явным, зато мы увидим, что мы вовсе не соль мира и в глаза нам с холодным любопытством глянут Высшие Существа… Как перенести, как перенести этот надлом… И неизвестно еще что лучше: так или эдак… Вот и дергайся от одной крайности к другой».
Неожиданно Толя ощутил себя котлеткой, дрожащей и как бы подкипяченной, мысли отошли от высокого и стали как мухи, рвущиеся из сетки; он даже хлопнул себя по лбу, порываясь раздавить этих мух… Мысли вились, неопределенные и бессмысленные, сплетаясь с чепухой, и словно уже не принадлежали его собственному великому Я, которое сузилось и стало как недотыкомка.
Падов сплюнул. Поганая кошка застыла, глядя на его рот.
– Грустите, Анатолий Юрьевич? – раздался влажный голос Клавуши. Толя хихикнул.
– Обожаю я вас, Анатолий Юрьевич, – продолжала Клавуша. – Так бы на вас сковородку и надела. Люблю, когда в пеньке имеется разум.
– Вот вы меня за пенек принимаете, Клавдия Ивановна, – радостно улыбнулся Падов, – а я ведь грущу, оттого что я всего-навсего – человек и заброшен в этот, по известному выражению, грязный подвал Вселенной.