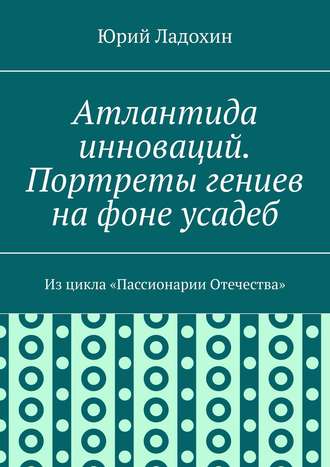
Атлантида инноваций. Портреты гениев на фоне усадеб. Из цикла «Пассионарии Отечества»

Атлантида инноваций. Портреты гениев на фоне усадеб
Из цикла «Пассионарии Отечества»
Юрий Ладохин
Посвящается любимой жене Оленьке
Выражаю благодарность сыновьям Паше и Мише за помощь в подготовке материалов для книги© Юрий Ладохин, 2018
ISBN 978-5-4493-1243-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Новые координаты Атлантиды – Сарматская равнина
1.1. Люди «длинной воли»
Есть слово, которое, похоже, завораживает всех. Имя ему – «гений».
Характеристику одного из них в 1921 году дала Марина Цветаева:
Вот он – гляди – уставший от чужбин,Вождь без дружин.Вот – горстью пьет из горной быстрины —Князь без страны(из цикла «Стихи к Блоку»).Почему «без дружин»? Но кто может назвать местонахождение древнего Института философии, который помогал бы Конфуцию в V веке до н.э. разработать оригинальную мировоззренческую систему, на которой ныне базируются этические основы существования крупнейшей державы с одной пятой населения земного шара? Сотрудники каких стартапов в Александрии второго столетия н. э. разрабатывали бы Птолемею техническую чертежи в процессе изобретения астролябии и квадранта, кто из них готовил материалы для написания ученым восьмитомного труда «Руководство по географии»?
Где имена бойких интернов Государства Саманидов XI века, помогавших своему шефу – Авиценне написать «Канон врачебной науки» и еще 450 трудов в двадцати девяти областях науки? Как зовут многочисленных лаборантов и младших научных сотрудников, которые налаживали нелюдимому Ньютону аппаратуру для проверки предложенных им диковинных гипотез: закона всемирного тяготения и трех законов механики?
Видимо, не имеет смысла искать в британских архивах имена студентов Маришаль-колледжа в Абервиле, которые помогали бы профессору Джеймсу Максвеллу разгадать в 1859 году секрет устойчивости колец Сатурна. Можно было бы, конечно, подозревать вмешательство вездесущих инопланетян, но основатель классической электродинамики и без их участия, опираясь на изящные математические выкладки, убедительно доказал, что самые гигантские ювелирные украшения нашей Солнечной системы состоят из скоплений метеоритов.
Отчего «князь без страны»? А как мыслителю-новатору, идущему наперекор устоявшимся представлениям о мире, жить в стране, которая отвергает его научные взгляды? Именно таким бесстрашным исследователем был Пифагор, выдвинувший в VI веке до н.э. дерзкую гипотезу о том, что объединяющим началом всех вещей служат числовые отношения, выражающие гармонию и порядок природы. Непонятый соотечественниками, он в 40-летнем возрасте покинул греческий остров Самос и поселился в Кротоне в Южной Италии, где создал знаменитую пифагорейскую школу, насчитывающую более двух тысяч учеников.
Аналогичная участь постигла итальянца Джордано Бруно, выступившего против господствующей в шестнадцатом столетии аристотеле-птолемеевской геоцентрической концепции устройства мироздания. Разработавший революционную теорию о бесконечности вселенной и множестве миров, он был обвинен в ереси и вынужден был переселиться сначала в Швейцарию, затем нашел свое пристанище во французской Сорбонне и британском Оксфорде. Проведя шесть лет в римских тюрьмах и не отказавших от своих натурфилософских убеждений, 17 февраля 1600 года Бруно как нераскаявшийся еретик был сожжен в Риме на площади Цветов.
Спасаясь от инквизиторов со свастикой на рукаве, в 1933 году вынужден был эмигрировать из Германии в США Альберт Энштейн. Сумма в 50 тысяч немецких марок, назначенная за голову еврейского ученого – создателя феноменальной по значимости общей теории относительности, сегодня не кажется какой-то громадной (скажем так, относительно небольшой); но в те годы немецкий обыватель мог купить на нее штук пятьдесят автомобилей типа «Фольксваген Жук». И поэтому, думается, понятна спешка, с которой знаменитый физик попрощался с Берлином и прибыл в Америку, где успешно продолжил изыскания по созданию единой теории поля.
Другой всемирно известный ученый – серб Никола Тесла, изобретатель первого генератора двухфазного переменного тока и поистине фантастического способа беспроволочной передачи сигналов и энергии на значительные расстояния, тоже стал гостем Нового Света, только на полстолетия раньше Энштейна. Но Америка оказалась для бывшего гражданина Австро-Венгрии не такой уж гостеприимной страной. Несмотря на обещание выплатить 50 тысяч долларов за конструктивное улучшение электромашины постоянного тока, босс Теслы – «король изобретателей» Томас Эдисон, после предоставления сотрудником 24-х вариантов модернизированного устройства, сказал, что иммигрант пока плохо понимает американский юмор. Вот только чего не смог предвидеть хитроумный Эдисон, так это то, что не пройдет и ста двадцати лет, как в США будет основана фирма Tesla Motors, – крупнейший производитель электромобилей в мире, названная в честь славянского «укротителя электричества».
Но, возможно, заметите вы: все это замечательные ученые, изобретатели, мыслители из дальних стран, а где же наши соотечественники? Похоже, таким же вопросом в свое время задался наш великий поэт:
Краев чужих неопытный любительИ своего всегдашний обвинитель,Я говорил: в отечестве моемГде верный ум, где гений мы найдем?Где гражданин с душою благородной,Возвышенной и пламенно свободной?Где женщина – не с хладной красотой,Но с пламенной, пленительно, живой?(А. Пушкин, из стихотворения «Краев чужих неопытныхлюбитель», 1817 г.).Свой идеал незаурядного интеллекта, широкой образованности и благородной души прославленный поэт нашел в Петербурге, на улице Миллионная, дом 30, в литературном салоне той, кого современники называли «жрицей какого-то чистого и высокого служения» («С кем можно быть не хладным, не пустым? // Отечество почти я ненавидел – // Но я вчера Голицыну увидел // И примирен с отечеством моим» (А. Пушкин, отрывок из того же стихотворения).
Но это небожитель поэтических сфер. Нам же, чтобы найти образцы «верного ума» и пламенной души, похоже, придется перенестись из блистательной Северной Пальмиры в тихие провинциальные места. Например, в Тамбовскую губернию, где в родовом поместье Вернадовка один из основателей русского космизма Владимир Вернадский, названный недавно ЮНЕСКО человеком второго тысячелетия, в конце XIX века подготовил основы учения о том, что биосфера переходит в новое эволюционное состояние – ноосферу. Суть его в том, что человечество превращается в новую мощную геологическую силу, своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты.
Или в имение Болдино Московской губернии, где во второй половине восемнадцатого столетия дипломат и историк Василий Татищев подготовил основные материалы для первого русского энциклопедического словаря («Российский исторический, географический и политический лексикон») и написал пять томов «Российской истории».
А можно и в усадьбу Привольное близ поселка Лух Ивановской области, где Николай Бенардос разработал метод дуговой электросварки, за который в 1881 году получил золотую медаль Парижской международной электротехнической выставки. Там же неутомимый изобретатель придумал сотни других приспособлений, механизмов и устройств. Среди них – механическая прачечная, кондиционер, зубная пломба, а также пуля со смещенным центром тяжести и… обыкновенная консервная банка.
В 1798 году граф Андрей Разумовский в усадьбе Горенки под Москвой заложил ботанический сад с многочисленными оранжереями, который иностранцы называли «восьмым чудом света» за богатство коллекций и размеры (около 730 гектаров). Здесь были собраны уникальные коллекции семян и огромная библиотека, а в 1809 году на базе Горенского сада возникло первое в России Фитографическое (ботаническое) общество.
Высланный из Петербурга за революционную деятельность профессор химии Александр Энгельгард в 70-80-х годах девятнадцатого столетия в своем имении Батищево на Смоленщине создал первую в России агрохимическую станцию, где за счет 15-польного севооборота и минеральных удобрений ему удалось более чем в 2 раза поднять производительность труда.
В 1870-х гг. князь Лев Голицын в имении Новый Свет в Крыму вырастил коллекционный виноградник из лозы тех стран, где поклоняются Дионису, построил в скалах подвалы с уникальной коллекцией драгоценных вин всех стран и винодельню, в которой впервые в России производство вин высокого качества было поставлено на промышленную основу. В 1891 князь начинает строительство по соседству с Ялтой массандровского винзавода и цех по производству шампанского в Абрау-Дюрсо близ Новороссийска. В 1900 году на Всемирной выставке вин в Париже голицынское игристое вино «Новый свет» опередило прославленные напитки французский виноделов и было удостоено Гран-при.
Основатель теории этногенеза Лев Гумилев, думается, назвал бы упомянутых выше дворян «пассионариями», или людьми «длинной воли», усилиями которых (а также десятков и сотен других русских ученых, изобретателей и предпринимателей) Россия в начале ХХ века превратилась в одну из самых динамично развивающихся стран мира. Само же понятие пассионарности историк-этнолог охарактеризовал как «необоримое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Заметим, что цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и соплеменников» (Л. Гумилев, отрывок из второй главы книги «Конец и вновь начало»).
Но задумаемся над следующим парадоксом: не напоминают ли иногда черты пассионарной личности стиль поведения завсегдатаев палат с мягкими стенами института им. В. Сербского? Согласитесь, что-то неуловимо похожее порой просматривается. Эту же версию, думается, мог поддержать и Шарль Бодлер:
И несколько умов, любовников Безумья,Решивших сократить докучный жизни деньИ в опия морей нырнувших без раздумья, —Вот Матери-Земли извечный бюллетень!(из стихотворения «Плаванье»).Однако, похоже, удивляться тут не стоит: у обывателей, люди с запредельным уровнем энергетики всегда вызывали ощущение дискомфорта, даже опасности (ведь тихий мирок уютных радостей может быть разрушен бурей перемен!).
В чем же секрет инновационной активности лучших представителей русского дворянства, истоки их пассионарности, понимаемой как способность творческой личности к сверхусилиям и сверхнапряжению в процессе изменения мироустройства? Множество энтузиастов, в том числе и в России, ищут следы Атлантиды – этого идеального, гармоничного государства, устройство которого описал Платон в своих «Диалогах». Согласно повествованию древнегреческого философа, эту страну населяли атланты – люди с большим творческим потенциалом, построившие большие города с удивительной архитектурой, многочисленными каналами, создавшие изощренную систему защиты от внешних врагов.
Атлантиду пока ищут безуспешно, хотя вариантов предлагается неимоверное количество. Не скрою, в этой гонке за поиском Города Совершенства есть и очень симпатичные версии. Я же готов предложить свою, которая с ходу может показаться уж совсем экзотической. Склонен предположить, что такая «земля обетованная», населенная людьми с незаурядной выдумкой и стремлением к достижению духовных идеалов, возродилась два столетия назад. Причем, не где-нибудь в Атлантическом океане, за Гераклитовыми столбами, а прямо здесь, среди березок и осин, на просторах Сарматской равнины (Bassopiano sarmatico) – так на итальянском называется Восточно-европейская равнина, которая простирается от Балтики на западе до Урала на востоке и от Баренцева моря на севере до Черного на юге.
И имя этой «земли обетованной» – русская усадьба. А с учетом пассионарной активности лучших представителей русского дворянства, их, прямо скажем, судьбоносных для страны достижений в науке, технике, экономике, не будет слишком смелым, думается, назвать помещичьи усадьбы «Атлантидой инноваций».
Но платоновская идеальная Атлантида ушла под воду:
Атлантида потонула,Тайна спрятала концы.Только рыбы в час разгулаЗаплывут в ее дворцы…(К. Бальмонт, стихотворение из сборника «Белый зодчий»).После большевистского переворота в октябре 1917 года, когда заполыхали дворянские усадьбы, не миновала эта участь и Атлантиду Среднерусской возвышенности. Однако исторический парадокс состоял в том, что революционный огонь, спаливший эти культурные гнезда, как отмечал исследователь тверских усадеб Сергей Глушков, «порой раздувался при активном участии их обитателей. Старицкий помещик Иван Гаврилович Головин еще в 40-х годах прошлого {XIX} века написал „Катехизис русского народа“, содержащий, помимо прочего, рекомендации по организации вооруженного восстания и строительству баррикад. Сестры Голенищевы-Кутузовы в 70-х годах в усадьбе Лялино Вышневолоцкого уезда устроили пропагандистский центр крайнего нигилизма» (из статьи «На обломках дворянской Атлантиды (Тверская губерния)»).
Вместе с тем, справедливости ради надо отметить, что стремления к кардинальным преобразованиям социального устройства российского общества были, конечно, крайними проявлениями интеллектуальных поисков русского дворянства, его инновационной энергии. В целом же роль русской усадьбы была, вернее всего, гораздо шире.
1.2. «Эдема сколок сокращенный» (русская Аркадия)
Дворянская усадьба, расцвет которой пришелся на конец ХVIII – первую половину ХIХ веков, похоже, была не просто жилым домом помещика (как и европейский замок или дворец). С самого начала она претендовала на то, чтобы быть особым пространством культуры, расположенном в естественном природном ландшафте. Место идиллическое (как не вспомнить библейский райский сад «Эдем»), обретенная «Аркадия» – уголок беззаботности и радости, усадебное пространство в окружение вековых лип и дубов предстает тем местом, где время, казалось бы, прямо на глазах у созерцателя перетекает в вечность. Как отмечал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, «усадьба была вселенной внутри другой вселенной, огороженной „райским садом“. Отсюда и характерные названия дворянских усадеб, такие как Отрада, Раек и т. п. Владелец усадьбы был ее монархом, и она напоминала корабль, находящийся в походе к сокровенной земле обетованной» (из выступления на конференции на тему «Столица и усадьба: два дома русской культуры», 2002 г.).
Атаман лихих людей из арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников» произносит знаменитую фразу «Сезам, отройся!», чтобы получить доступ к находившимся внутри пещеры сокровищам. Чтобы попасть в райский уголок дворянской «Аркадии» гость, пожалуй, тоже должен был сообщить возничему какое-то заветное слово. Чтобы эта задача не была столь затруднительной, хозяева уже в названиях своих поместий, видимо, предусмотрели подсказки для возможных визитеров: Рай-Семеновское (усадьба Нащокиных в Серпуховском уезде Московской губернии), Рай (усадьба Вонлярлярских в Смоленском уезде Смоленской губернии).
Несмотря на моду на все изыски галльского происхождения, для поименований усадеб хозяева патриотично избирали все-таки национальный язык: «В „переводах“ с французского на русский названиям Sans Soucis соответствовали Беззаботы (Ельнинского у. Смоленской губ. кн. Шаховских) или Беззаботная (Петергофского у. Санкт-Петербургской губ.). Mon plaisir в русском варианте превращался в Отраду, Отрадино, Отрадное, Отраднево. Названия этого ряда, вероятно, наиболее часто встречающиеся топонимы, связанные с „райской“ концепцией. Sans Ennui становился Нескучным, а Belle vue („прекрасный вид“) – Живописной, Раздольем, Миловидовом, Световидом или более конкретно – Приятной Поляной, Ясной Поляной и пр.» [Дмитриева, Купцова 2008, с. 333].
Из некоторых названий усадеб можно было бы, думается, смело составлять поэтические тексты, рассказывающие о благословенных местах российской ойкумены: Заветное, Благодатное, Лакомая Буда, Красавино, Нерастанное, мыза Кинь-Грусть, Утешение, Ясное, Уединенное, Хорошее, Приют, Приютино [см. Там же, с. 333]. Чем не доказательство этому – строки Василия Пушкина (дяди великого поэта), посвященные имению генерал-аншефа Ивана Ганнибала?:
Души чувствительной отрада, утешенье,Прелестна тишина, покой, уединенье,Желаний всех моих единственный предмет!Недолго вами я, к несчастью, наслаждался,Природы красотой недолго любовался,Опять я в городе, опять среди сует…(из стихотворения «Суйда», 1798 г.).А вот со словом «Эдем» – одной из желанных характеристик как провинциальной дворянский усадьбы, так и резиденций самодержцев российских, можно было бы вполне устроить небольшой поэтический турнир.
Откроет его ученый-энциклопедист, основатель (по словам Виссариона Белинского) русской поэзии – Михаил Ломоносов. Его «вирши» – об императорской резиденции Елизаветы Петровны в Царском Селе:
Мои источники венчаетЭдемской равна красота,Где сад богиня насаждает,Прохладны возлюбив места…(из оды, посвященной императрице, 1750 г.).Другой участник поединка пиитов – Гавриил Державин, посвятивший эти строки воспоминаниям о пребывании в Царском Селе следующей государыни – Екатерины II:
Тут был Эдем ее прелестныйНаполнен меж купин цветов,Здесь тек под синий свод небесныйВ купальню скрытый шум ручьев;Здесь был театр, а тут качели,Тут азиатский домик нег;Тут на Парнасе музы пели,Тут звери жили для утех(из стихотворения «Развалины», 1797 г.).Двум маститым мастерам бросает вызов менее известный широкому кругу почитателей поэзии князь Иван Долгорукий. Его слова восхищения – о великолепии подмосковного имения графов Шереметьевых:
Земли лоскутик драгоценный —Кусково! Милый уголок,Эдема сколок сокращенный,В котором самый тяжкий рокВ воскресный день позабывалсяИ всякий чем-нибудь пленялся(из стихотворения «Прогулка в Кускове», 1788 г.).Победителей поэтического поединка, думается, определять смысла нет: все трое продемонстрировали ажурное мастерство стихосложения. Ирония, однако, заключается в том, что восторженные строки поэтов XVIII века о роскошном «Эдеме» царских резиденций и дворянских усадеб определенно диссонируют с первоначальным смыслом понятия «Аркадия». В античности Аркадия была вполне конкретным географическим местом: пустынной местностью Пелопоннеса, причем одной из беднейших в Греции. И населяли этот уголок Эллады охотники, рыбаки, крестьяне, которые вели простой, без излишеств образ жизни в единении с природой.
И только усилиями древнегреческого поэта Феокрита Аркадия начинает осмысляться как идеальное пространство, населяемое не только людьми, но и божествами, в первую очередь, козлоногим Паном, покровителем скотоводства и дикой природы. Мифологическую шлифовку образа пастушьего края продолжил живший во времена Юлия Цезаря римский поэт Вергилий. В его эклогах Аркадия из реальной страны превращается в сказочную, становится «пейзажем души». В этом идеальном, наполненном поэзией пространстве, пастухи, словно современные рэперы, устраивают певческие состязания. Темы четверостиший сменяются не случайным образом: сперва они сужаются – поэзия, боги, любовь, природа и быт; потом расширяются – природа и любовь, любовь и боги; а когда очередной певец не в силах продолжать в том же духе, ему засчитывается поражение (см. статью Михаила Гаспарова «Вергилий – поэт будущего»).
Классическую завершенность образу легендарной Аркадии, как представляется, придал итальянский поэт эпохи Ренессанса Якопо Саннадзаро. В 1504 году он опубликовал пасторальный роман, где страдающий от любви поэт уходит из города, чтобы жить в безмятежности и простоте Аркадии, черпая вдохновение в печальных песнях пастухов. Уютный сельский мирок в интерпретации Саннадзаро явился результатом понимания античности как безвозвратно потерянного рая. Сама же Аркадия, с одной стороны, становится символом утраты и элегии, а с другой – побуждает ее обитателей к созданию атмосферы умиротворенности и галантных увеселений на лоне природы.
Такой посыл, думается, не мог не понравиться хозяевам русских дворянских поместий. Они не только устраивали в своих имениях сопровождаемые музыкой и танцами буколические игры, но стремились превратить свое родовое поместье в близкое подобие Аркадии. Результат иногда получался весьма впечатляющим.
Вот так, например, проводил летние месяцы в своем имении Мара старший чиновник особых поручений при тамбовском губернаторе Сергей Баратынский (брат известного поэта): «Внизу, возле источника, возышалась изящной архитектуры купальня в виде готической башни, к которой вел красивый мост. Вообще эта жизнь в лесу представляла что-то волшебное. В семейные праздники по лесу развешивались разноцветные фонари и зажигались бенгальские огни, что придавало всей местности фантастический вид. Здесь устраивались хоры из классических опер» [Каждан 1997, с. 41].
Вместе с тем, некоторые хозяева имений не останавливались на попытках мифологизации усадебного пространства (имение как райский уголок); иногда цель ставилась посущественней: ни много ни мало, – превратить пустыню в сад. Вот что вспоминает декабрист, герой Отечественной войны 1812 года князь Сергей Волконский об усилиях своей матери по преобразованию усадьбы Павловское в Тамбовской губернии: «Когда родители купили именье в 1863 году, все было в запустении; только большие старые деревья радовали глаз, повсюду крапива, лопух, хворост. Теперь все чисто, свежо, нарядно. <…> Шевырев сказал, что в „Слове о полку Игореве“ выразилась в поэтической форме вековая наша задача – борьба с пустыней. Борьба с пустыней была деятельностью моей матери в Павловке, и, конечно, не одну природную пустыню тут следует понимать, но ту пустыню, которую люди делают, и ту пустыню, которая в самих людях» [Волконский 1992, с. 28 – 29].
Пожалуй, мало найдется таких людей, которые со школьной скамьи не слышали о самом знаменитом усадебном саде – вишневом, давшем название одной из чеховских пьес. После постановки комедии в 1904 году на сцене Московского художественного театра некоторые театральные критики упрекали драматурга в том, что старый вишневый сад Раневской далек от реалий того времени и является лишь изящной литературной аллегорией (и так, похоже, думают и многочисленные почитатели таланта драматурга). Ведь «для традиционной дворянской усадьбы создание такого „монофруктового“ сада было совершенно нехарактерно: как правило, в русских садах XVIII – начала XIX в. высаживалось сбалансированное количество разных пород фруктовых деревьев, которые к концу лета могли обеспечить необходимый урожай плодов» [Батракова 1995, с. 46]. Но гений – это всегда неожиданность. И Чехов воплотил литературную аллегорию в красивую реальность: высадил возле своего дома в подмосковном Мелихове около тысячи (!) вишневых деревьев.
И самое трогательное в таком саду – белые цветы как символ чистоты, которой всегда не хватает, как предвестник ощущения полноты жизни, которое дорогого стоит:
Вишневый сад, все в белом, как невесты…Вишневый сад, трепещут занавески.Вишневый сад – последний бал Раневской…(Николай Добронравов, из стихотворения «Вишневый сад»).Нередко созидательные порывы по обустройству «уголков Эдема» в сельской глуши приобретали и отчетливый национальный оттенок. Как отмечают исследователи жизни усадеб Екатерина Дмитриева и Ольга Купцова, примером этого может служить «„неорусское“ движение в усадьбах, начавшееся во второй половине XIX в. (Абрамцево, Талашкино и пр.). Идеализированные „русские“ постройки (теремки, избушки на курьих ножках и пр.) призваны были воссоздать Аркадию славянскую – мир русской сказки, перенесенный в усадебное пространство» [Дмитриева, Купцова 2008, с. 153].
Как представляется, повлияли на эту тенденцию и народнические идеи, которые побудили интерес к крестьянскому творчеству и подтолкнули русских зодчих к новым архитектурным решениям. Как подчеркивают Елена Марасимова и Татьяна Каждан, «основоположниками этого направления в архитектуре последней трети XIX века были В. А. Гартман и И. П. Ропет (Петров), которые отказались в своей практике от обращения к древним прототипам и черпали свои идеи в крестьянском прикладном искусстве. Оно воспринималось многими современниками как передовое и особенно поддерживалось В. В. Стасовым. Помимо известных абрамцевских построек можно назвать „Теремок“ в Ольгине Новгородской губернии, дом в Глубоком Псковской губернии, пристройку к усадебному дому в Рюминой Роще Рязанской губернии, выполненных с применением трактуемых в этои роде форм» (из книги Е. Марасимовой и Т. Каждан «Культура русской усадьбы»).









