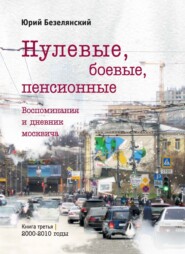По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опасная профессия: писатель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В ночь на 23 июля Луначарского арестовали по обвинению Временного правительства в государственной измене и заключили в тюрьму «Кресты». В начале августа освободили, а 20-го числа Луначарского избрали гласным петроградской городской Думы, и он стал к тому же руководителем большевистской фракции. Не скрывая своего удовлетворения, Луначарский писал жене 23 августа: «…я действительно популярный вождь пролетарских масс. Быть может, ни одно имя, кроме Троцкого и Ленина, не пользуется такой популярностью и любовью…»
Из письма от 13 сентября:
«Работаю я вовсю. Последнюю неделю я выступал 4 раза на громадных собраниях с лекциями. Теперь моя нормальная аудитория – 4000 чел. Всякая зала, в которой я читаю, полна… Но главная работа – культурно-просветительская городская. Сегодня целый день объезжаю училища… Большую работу делаю я и по созыву конференции пролетарских просветительских обществ…»
25 сентября: «…Моя роль первой скрипки в культурно-просветительском деле получила широкое признание и среди большевиков, и в Советах вообще, и в Думе, и в пролетариате, и даже среди специалистов…»
Чувствуется, Анатолий Васильевич упоен своими успехами, еще бы: он избран заместителем петроградского Городского головы. Далее последовали и другие высокие посты и назначения. Казалось бы, работай и работай, просвещай серую массу рабочих и крестьян, ан нет: большевики задумали вооруженный переворот. И в Швейцарию, в Цюрих, летят обеспокоенные, тревожные письма:
«Положение России ужасно, и сердце болит все время за нее. С нею пропадем мы все» (2 октября).
«Озлобление против нас колоссально растет на правом полюсе… Растет страшное недовольство и в рабочей, солдатской, крестьянской среде, оно здесь пугает меня, и теперь много анархического, пугачевщинского. Эта серая масса, сейчас багрово-красная, может наделать больших жестокостей, а с другой стороны, вряд ли мы при зашедшей так далеко разрухе сможем, даже если власть перейдет в руки крайне левой, наладить сколько-нибудь жизнь страны. И тогда, вероятно, мы будем смыты той же волной отчаяния, которая вознесет нашу партию к власти…»
18 октября (за неделю до вооруженного восстания): «Мы образовали нечто вроде блока правых большевиков: Каменев, Зиновьев, я, Рязанов и другие. Во главе левых стоят Ленин и Троцкий. У них – ЦК, а у нас все руководители отдельных работ: муниципальной, профсоюзной, фабрично-заводских комитетов, военной, советской…»
Приближался час пик. Луначарский с неохотою перешел на сторону Ленина, но еще лелеял надежду на созыв Учредительного собрания «при толковой оппозиции большевиков». Надежды Луначарского были разбиты вдребезги.
25 октября (7 ноября по новому стилю) большевики захватили власть. И Луначарский огласил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам», которое извещало о победе революции и переходе власти к Советам.
28 октября Луначарский спешит сообщить жене о том, как все произошло: «Для меня он (переворот. – Ю. Б.) был неожиданным… переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которым он был произведен. Даже враги говорят: «Лихо». Войска дисциплины не нарушают. Хотя в Зимнем дворце был все же погром и эксцессы (убийств не было), за которые страшно и тяжко нести ответственность… Как-никак, а жертв чрезвычайно мало пока. Пока. С ужасом думаю, не будет ли их больше».
И еще одна тревога: «Да, взять власть оказалось легко, но нести ее!» И обращение чисто личное: «Нюра, Нюра, я уже не прошу судьбу – увидеть вас, но хоть письма-то мои дошли бы до вас! Милые, дорогие, далекие!..»
29 октября – письмо на следующий день:
«Дорогая Нюрочка. Конечно, чем дальше, тем хуже. Положение тяжелое… Я пойду с товарищами по правительству до конца. Но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать. Я отойду и буду ждать, что пошлет судьба… Лучше самая большая беда, чем великая вина…»
В следующем письме к Анне Малиновской: «Эксцессов пока никаких, им нет никаких шор. Но их я боюсь больше всего. Больше смерти! Погибнуть за нашу программу – достойно. Но прослыть виновником безобразий и насилий – ужасно… Целую вас, мои святые…»
Вулканическая деятельность
«Я – министр народного просвещения, или, как у нас установлено: народный комиссар», – из письма к жене.
А буквально через несколько дней 2 ноября Луначарский подал заявление о выходе из правительства, ввиду того, что не может работать под гнетом таких фактов, как разрушение Кремля, уничтожения соборов Успенского, Василия Блаженного и других исторических памятников. Потом выяснилось, что собор Сант-Базилио оказался невредим, и Луначарский после разговора с Лениным остался на своем посту. И предпринял громадные усилия по сохранению художественных культурно-исторических сокровищ и памятников. Многое удалось защитить и спасти. Но многое было и разрушено…
Еще одна задача стояла перед Луначарским: привлечь на сторону советской власти старую интеллигенцию. «Но какая ненависть против нас, боже, какая бездонная ненависть во всей обывательщине – у всех социалистов-соглашателей!» – жаловался нарком в одном из писем к жене. Большевиков ненавидели не только эсеры, кадеты и прочие политики, их не приняли многие деятели культуры и литературы, достаточно полистать «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус.
28 ноября 1917 года: «Тьма, морозный туман, красная озорь гикает…»
7 января 1918: «Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился, изуродованный. Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих застигли спящими в постелях…»
Полилась та кровь, которой так боялся Луначарский.
А теперь маленькая справка. Федор Кокошкин, профессор Московского университета, специалист права, входил в состав Временного правительства. На момент зверского убийства в Мариинской тюремной больнице Кокошкину было 46 лет. Андрей Шингарев, старше Кокошкина на 2 года, по профессии врач. После февраля 1917 года возглавлял Продовольственную комиссию. По мнению современников, был превосходным деловым министром – со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом.
Но вернемся к дневнику Зинаиды Николаевны Гиппиус. 25 января 1918: «Пока нет начала света – предрекаю: напрасны кривлянья Луначарского, тщетны пошлые безумства Ленина, ни к чему все предательства Троцкого-Бронштейна, да и бесцельны все «социалистические» их декреты, хотя бы 10 лет они издавались 10 лет сидящими большевиками. Впрочем, 10 лет декреты издаваться наверно не будут, ибо гораздо раньше уничтожат физически все окружающее и всех людей. Это они могут».
И дальнейшая приписка: «Грабят сплошь. И убивают».
Запись от 14 апреля 1918 года: «В среду на Страстной – 1 мая по новому стилю. Владыки объявили «праздник своему народу». Луначарский, этот изолгавшийся парикмахер, клянется, что устроит «из праздников праздник», красоту из красот. Будут возить по городу колесницы с кукишами (старый мир) и драконов (новый мир, советская коммуна). Потом кукиши сожгут, а драконов будут венчать. Футуристы воспламенились, жадно мажут плакаты. Луначарский обещает еще «свержение болванов» – старых памятников. Уже целятся на скульптуру барона Клодта на Мариинской площади (памятник Николаю I)».
14 октября 1918: «В Гороховой «чрезвычайке» орудуют женщины (Стасова, Яковлева), а потому царствует особенная – упрямая и тупая, – жестокость. Даже Луначарский с ней борется, и тщетно: только плачет (буквально, слезами)».
22 октября Гиппиус, комментируя слух об убийстве Василия Розанова, «русского Ницше», восклицала: «Я не хочу верить, но ведь все возможно в нашем «культурном раю», г-да Горькие и Луначарские!..»
В одной из записей «Черной тетради» Зинаида Николаевна припечатала Марию Андрееву: «Эта истерическая особа, жена Горького, которая работает с Луначарским: «Ах, я с удовольствием… И вечер устрою…»
Если записи у Зинаиды Гиппиус полны сарказма, то в дневнике Корнея Чуковского касательно Луначарского присутствуют мягкий юмор и ирония. Вот некоторые записи:
14 февраля 1918 года: «У Луначарского. Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нибудь, сделать одолжение – для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо – источающее на всех благодать: – Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, – и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно – и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота – в паршивенькой квартирке – наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага: «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве просвещения и т. д.» Но публика на бумажку никакого внимания, – так и прет к нему в двери, – и артисты Императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке. «Ведь написано». И тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно – простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле.
При мне пришел фотограф – и принес Луначарскому образцы своих изделий – «Гениально!» – залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непременно приду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне пораньше, и, когда он приедет, – я поднесу ему Ваш портрет… приезжайте с ребеночком, – уй, какое цацеле…»
В министерстве просвещения Луначарский запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете – из либерализма – не завешен. Вызывает посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственной мудростью Анатолия Васильевича… Кокетство наивное и безобидное…»
15 октября 1918. «…Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров – очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего…»
И далее запись того же дня: «…Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше – его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая – делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него больное сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду».
9 июля 1919. «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:
– Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».
На склоне лет Корней Иванович вспоминал о давно умершем наркоме: «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры – был образованный человек» (12 апреля 1965).
В образованности и даже в энциклопедичности знаний Луначарскому не откажешь. Он многое знал и многое успел сделать. Он пересмотрел практически все наследство русской литературы. Творчество Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Островского, Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Брюсова нашло себе оценку в его статьях и в книге «Литературные силуэты» (1923).
Луначарский осаживал футуристов в их стремлении сбросить классиков с «корабля современности». В 1918 носился с идеей учредить Академию Искусств, параллельно создать Вольную Философскую академию (сокращенно: Вольфил), Вольную «скифскую академию» с привлечением лучших интеллектуальных сил России. Проектов было много, но не все удалось воплотить. Был создан и активно функционировал, пожалуй, лишь ТЕО – театральное управление. Но настоящих помощников у наркома было мало, очень многие не хотели сотрудничать с советской властью и всяческими путями пытались эмигрировать из России. Оставались единицы, Валерий Брюсов, к примеру. Еще Александр Бенуа, о котором Зинаида Гиппиус отозвалась так: «С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден…»
Водится с Луначарским – это что-то неприличное для старой интеллигенции. И о горьковской жене та же Гиппиус, о «дублюре»: «Знаменитая Мария Федоровна Андреева, которая «ах, искусство!» и потому всячески дружит и работает с Луначарским» («Черная тетрадь» 4 декабря 1917).
Но Луначарский, преодолевая критику, саботаж, недоверие, все же пытался возродить культурную жизнь в стране. В Москве, на Поварской, в «доме Ростовых» стал функционировать Дворец Искусств, задача которого была сформулирована так: «Развитие и процветание научного и художественного творчества, объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения условий труда и быта». Луначарский не только курировал Дворец Искусств, но часто выступал в нем с лекциями и чтением своих произведений. В Белом зале Дворца проводились доклады-митинги, вечера-митинги, диспуты. Кипела жизнь и в петроградском Доме литераторов (Бассейная, 11).
Об этом интеллектуальном кипении и бурлении скептически писал Александр Амфитеатров:
«Славны бубны за горами, но кто наблюдал их добросовестно и вблизи, того они провести не могут. Грубо лицемерный характер их был подмечен даже таким двусмысленным путешественником и присяжным хвалителем большевиков, как Г. Уэллс. Внутри же страны все эти – «Дом ученых», «Дом искусств», «Всемирная литература» – содействуют, в сущностве своем, одной цели: срывать забастовку интеллигенции и литературный саботаж. Нащупывать в литературной среде слабость, хилость, неустойчивость, которые, при необычном режиме обстоятельств, не выдержали характера и пойдут на компромиссы с торжествующей политической истерией».
И горький вздох Амфитеатрова: «Коммунистическая революция душила нас мертвою хваткою, но ее конституция не могла отказать нам в некотором подобии автономной хозяйственной организации».
И еще одна важная деталь: «Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя Гринберга был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу и, если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал ее, умывая руки, как Пилат…»
Надо сказать о судьбе Захария Гринберга. После отставки Луначарского он работал в Институте мировой литературы. Был репрессирован в начале антисемитской кампании «борьбы с космополитами» и погиб в 1949 году в возрасте 60 лет.
Большая заслуга Луначарского состояла в открытии Пушкинского дома (20 апреля 1918), который вскоре превратился в Институт новой русской литературы, и три года директорствовал в нем Луначарский. Институт сделал много полезных дел и в пропаганде пушкинского наследия, и в изучении древнерусской литературы, в частности «Слова о полку Игореве».
А спасение музея Бахрушина в 1918 году, когда здание подверглось обстрелу и разорению, и тогда Луначарский распорядился дать музею охрану из взвода латышей, этих «советских швейцарцев», и тем самым сохранили бесценные реликвии, собранные Бахрушиным, правда, не все, но какую-то все же часть.
Благие дела Анатолия Васильевича можно перечислять и перечислять, но все равно в глазах многих российских интеллектуалов он виделся лишь в образе большевистского злодея. Михаил Кузмин записывал в дневнике: «Ведь это все призраки – и Луначарский и красноармейцы, этому нет места в природе, и все это чувствуют. Какой ужасный сон». (12 ноября 1918).
Из письма от 13 сентября:
«Работаю я вовсю. Последнюю неделю я выступал 4 раза на громадных собраниях с лекциями. Теперь моя нормальная аудитория – 4000 чел. Всякая зала, в которой я читаю, полна… Но главная работа – культурно-просветительская городская. Сегодня целый день объезжаю училища… Большую работу делаю я и по созыву конференции пролетарских просветительских обществ…»
25 сентября: «…Моя роль первой скрипки в культурно-просветительском деле получила широкое признание и среди большевиков, и в Советах вообще, и в Думе, и в пролетариате, и даже среди специалистов…»
Чувствуется, Анатолий Васильевич упоен своими успехами, еще бы: он избран заместителем петроградского Городского головы. Далее последовали и другие высокие посты и назначения. Казалось бы, работай и работай, просвещай серую массу рабочих и крестьян, ан нет: большевики задумали вооруженный переворот. И в Швейцарию, в Цюрих, летят обеспокоенные, тревожные письма:
«Положение России ужасно, и сердце болит все время за нее. С нею пропадем мы все» (2 октября).
«Озлобление против нас колоссально растет на правом полюсе… Растет страшное недовольство и в рабочей, солдатской, крестьянской среде, оно здесь пугает меня, и теперь много анархического, пугачевщинского. Эта серая масса, сейчас багрово-красная, может наделать больших жестокостей, а с другой стороны, вряд ли мы при зашедшей так далеко разрухе сможем, даже если власть перейдет в руки крайне левой, наладить сколько-нибудь жизнь страны. И тогда, вероятно, мы будем смыты той же волной отчаяния, которая вознесет нашу партию к власти…»
18 октября (за неделю до вооруженного восстания): «Мы образовали нечто вроде блока правых большевиков: Каменев, Зиновьев, я, Рязанов и другие. Во главе левых стоят Ленин и Троцкий. У них – ЦК, а у нас все руководители отдельных работ: муниципальной, профсоюзной, фабрично-заводских комитетов, военной, советской…»
Приближался час пик. Луначарский с неохотою перешел на сторону Ленина, но еще лелеял надежду на созыв Учредительного собрания «при толковой оппозиции большевиков». Надежды Луначарского были разбиты вдребезги.
25 октября (7 ноября по новому стилю) большевики захватили власть. И Луначарский огласил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам», которое извещало о победе революции и переходе власти к Советам.
28 октября Луначарский спешит сообщить жене о том, как все произошло: «Для меня он (переворот. – Ю. Б.) был неожиданным… переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которым он был произведен. Даже враги говорят: «Лихо». Войска дисциплины не нарушают. Хотя в Зимнем дворце был все же погром и эксцессы (убийств не было), за которые страшно и тяжко нести ответственность… Как-никак, а жертв чрезвычайно мало пока. Пока. С ужасом думаю, не будет ли их больше».
И еще одна тревога: «Да, взять власть оказалось легко, но нести ее!» И обращение чисто личное: «Нюра, Нюра, я уже не прошу судьбу – увидеть вас, но хоть письма-то мои дошли бы до вас! Милые, дорогие, далекие!..»
29 октября – письмо на следующий день:
«Дорогая Нюрочка. Конечно, чем дальше, тем хуже. Положение тяжелое… Я пойду с товарищами по правительству до конца. Но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать. Я отойду и буду ждать, что пошлет судьба… Лучше самая большая беда, чем великая вина…»
В следующем письме к Анне Малиновской: «Эксцессов пока никаких, им нет никаких шор. Но их я боюсь больше всего. Больше смерти! Погибнуть за нашу программу – достойно. Но прослыть виновником безобразий и насилий – ужасно… Целую вас, мои святые…»
Вулканическая деятельность
«Я – министр народного просвещения, или, как у нас установлено: народный комиссар», – из письма к жене.
А буквально через несколько дней 2 ноября Луначарский подал заявление о выходе из правительства, ввиду того, что не может работать под гнетом таких фактов, как разрушение Кремля, уничтожения соборов Успенского, Василия Блаженного и других исторических памятников. Потом выяснилось, что собор Сант-Базилио оказался невредим, и Луначарский после разговора с Лениным остался на своем посту. И предпринял громадные усилия по сохранению художественных культурно-исторических сокровищ и памятников. Многое удалось защитить и спасти. Но многое было и разрушено…
Еще одна задача стояла перед Луначарским: привлечь на сторону советской власти старую интеллигенцию. «Но какая ненависть против нас, боже, какая бездонная ненависть во всей обывательщине – у всех социалистов-соглашателей!» – жаловался нарком в одном из писем к жене. Большевиков ненавидели не только эсеры, кадеты и прочие политики, их не приняли многие деятели культуры и литературы, достаточно полистать «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус.
28 ноября 1917 года: «Тьма, морозный туман, красная озорь гикает…»
7 января 1918: «Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился, изуродованный. Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих застигли спящими в постелях…»
Полилась та кровь, которой так боялся Луначарский.
А теперь маленькая справка. Федор Кокошкин, профессор Московского университета, специалист права, входил в состав Временного правительства. На момент зверского убийства в Мариинской тюремной больнице Кокошкину было 46 лет. Андрей Шингарев, старше Кокошкина на 2 года, по профессии врач. После февраля 1917 года возглавлял Продовольственную комиссию. По мнению современников, был превосходным деловым министром – со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом.
Но вернемся к дневнику Зинаиды Николаевны Гиппиус. 25 января 1918: «Пока нет начала света – предрекаю: напрасны кривлянья Луначарского, тщетны пошлые безумства Ленина, ни к чему все предательства Троцкого-Бронштейна, да и бесцельны все «социалистические» их декреты, хотя бы 10 лет они издавались 10 лет сидящими большевиками. Впрочем, 10 лет декреты издаваться наверно не будут, ибо гораздо раньше уничтожат физически все окружающее и всех людей. Это они могут».
И дальнейшая приписка: «Грабят сплошь. И убивают».
Запись от 14 апреля 1918 года: «В среду на Страстной – 1 мая по новому стилю. Владыки объявили «праздник своему народу». Луначарский, этот изолгавшийся парикмахер, клянется, что устроит «из праздников праздник», красоту из красот. Будут возить по городу колесницы с кукишами (старый мир) и драконов (новый мир, советская коммуна). Потом кукиши сожгут, а драконов будут венчать. Футуристы воспламенились, жадно мажут плакаты. Луначарский обещает еще «свержение болванов» – старых памятников. Уже целятся на скульптуру барона Клодта на Мариинской площади (памятник Николаю I)».
14 октября 1918: «В Гороховой «чрезвычайке» орудуют женщины (Стасова, Яковлева), а потому царствует особенная – упрямая и тупая, – жестокость. Даже Луначарский с ней борется, и тщетно: только плачет (буквально, слезами)».
22 октября Гиппиус, комментируя слух об убийстве Василия Розанова, «русского Ницше», восклицала: «Я не хочу верить, но ведь все возможно в нашем «культурном раю», г-да Горькие и Луначарские!..»
В одной из записей «Черной тетради» Зинаида Николаевна припечатала Марию Андрееву: «Эта истерическая особа, жена Горького, которая работает с Луначарским: «Ах, я с удовольствием… И вечер устрою…»
Если записи у Зинаиды Гиппиус полны сарказма, то в дневнике Корнея Чуковского касательно Луначарского присутствуют мягкий юмор и ирония. Вот некоторые записи:
14 февраля 1918 года: «У Луначарского. Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нибудь, сделать одолжение – для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо – источающее на всех благодать: – Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, – и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно – и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота – в паршивенькой квартирке – наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага: «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве просвещения и т. д.» Но публика на бумажку никакого внимания, – так и прет к нему в двери, – и артисты Императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке. «Ведь написано». И тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно – простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле.
При мне пришел фотограф – и принес Луначарскому образцы своих изделий – «Гениально!» – залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непременно приду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне пораньше, и, когда он приедет, – я поднесу ему Ваш портрет… приезжайте с ребеночком, – уй, какое цацеле…»
В министерстве просвещения Луначарский запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете – из либерализма – не завешен. Вызывает посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственной мудростью Анатолия Васильевича… Кокетство наивное и безобидное…»
15 октября 1918. «…Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров – очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего…»
И далее запись того же дня: «…Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше – его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая – делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него больное сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду».
9 июля 1919. «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:
– Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».
На склоне лет Корней Иванович вспоминал о давно умершем наркоме: «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры – был образованный человек» (12 апреля 1965).
В образованности и даже в энциклопедичности знаний Луначарскому не откажешь. Он многое знал и многое успел сделать. Он пересмотрел практически все наследство русской литературы. Творчество Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Островского, Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Брюсова нашло себе оценку в его статьях и в книге «Литературные силуэты» (1923).
Луначарский осаживал футуристов в их стремлении сбросить классиков с «корабля современности». В 1918 носился с идеей учредить Академию Искусств, параллельно создать Вольную Философскую академию (сокращенно: Вольфил), Вольную «скифскую академию» с привлечением лучших интеллектуальных сил России. Проектов было много, но не все удалось воплотить. Был создан и активно функционировал, пожалуй, лишь ТЕО – театральное управление. Но настоящих помощников у наркома было мало, очень многие не хотели сотрудничать с советской властью и всяческими путями пытались эмигрировать из России. Оставались единицы, Валерий Брюсов, к примеру. Еще Александр Бенуа, о котором Зинаида Гиппиус отозвалась так: «С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден…»
Водится с Луначарским – это что-то неприличное для старой интеллигенции. И о горьковской жене та же Гиппиус, о «дублюре»: «Знаменитая Мария Федоровна Андреева, которая «ах, искусство!» и потому всячески дружит и работает с Луначарским» («Черная тетрадь» 4 декабря 1917).
Но Луначарский, преодолевая критику, саботаж, недоверие, все же пытался возродить культурную жизнь в стране. В Москве, на Поварской, в «доме Ростовых» стал функционировать Дворец Искусств, задача которого была сформулирована так: «Развитие и процветание научного и художественного творчества, объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения условий труда и быта». Луначарский не только курировал Дворец Искусств, но часто выступал в нем с лекциями и чтением своих произведений. В Белом зале Дворца проводились доклады-митинги, вечера-митинги, диспуты. Кипела жизнь и в петроградском Доме литераторов (Бассейная, 11).
Об этом интеллектуальном кипении и бурлении скептически писал Александр Амфитеатров:
«Славны бубны за горами, но кто наблюдал их добросовестно и вблизи, того они провести не могут. Грубо лицемерный характер их был подмечен даже таким двусмысленным путешественником и присяжным хвалителем большевиков, как Г. Уэллс. Внутри же страны все эти – «Дом ученых», «Дом искусств», «Всемирная литература» – содействуют, в сущностве своем, одной цели: срывать забастовку интеллигенции и литературный саботаж. Нащупывать в литературной среде слабость, хилость, неустойчивость, которые, при необычном режиме обстоятельств, не выдержали характера и пойдут на компромиссы с торжествующей политической истерией».
И горький вздох Амфитеатрова: «Коммунистическая революция душила нас мертвою хваткою, но ее конституция не могла отказать нам в некотором подобии автономной хозяйственной организации».
И еще одна важная деталь: «Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя Гринберга был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу и, если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал ее, умывая руки, как Пилат…»
Надо сказать о судьбе Захария Гринберга. После отставки Луначарского он работал в Институте мировой литературы. Был репрессирован в начале антисемитской кампании «борьбы с космополитами» и погиб в 1949 году в возрасте 60 лет.
Большая заслуга Луначарского состояла в открытии Пушкинского дома (20 апреля 1918), который вскоре превратился в Институт новой русской литературы, и три года директорствовал в нем Луначарский. Институт сделал много полезных дел и в пропаганде пушкинского наследия, и в изучении древнерусской литературы, в частности «Слова о полку Игореве».
А спасение музея Бахрушина в 1918 году, когда здание подверглось обстрелу и разорению, и тогда Луначарский распорядился дать музею охрану из взвода латышей, этих «советских швейцарцев», и тем самым сохранили бесценные реликвии, собранные Бахрушиным, правда, не все, но какую-то все же часть.
Благие дела Анатолия Васильевича можно перечислять и перечислять, но все равно в глазах многих российских интеллектуалов он виделся лишь в образе большевистского злодея. Михаил Кузмин записывал в дневнике: «Ведь это все призраки – и Луначарский и красноармейцы, этому нет места в природе, и все это чувствуют. Какой ужасный сон». (12 ноября 1918).