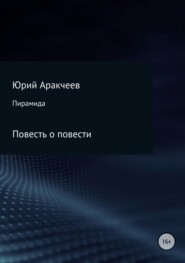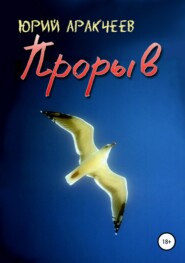По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пирамида жива…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И кликушествовали, воздевая руки и бия себя в грудь, не только о Булгакове. О Платонове, Цветаевой, Ахматовой, Гумилеве, Бабеле, Зощенко, Высоцком, Галиче, Мандельштаме, Гроссмане, Пастернаке… – всех и не перечислить. Теперь уже и о большевиках-ленинцах стенали в пароксизме «очистительного покаяния» – о тех самых, которые сначала подняли «меч террора», а потом сами же от него и погибли… Все смешалось. Кликушествовать стало престижно и модно.
И как-то не замечали в апофеозе повального «милосердия» к мертвым, что еще жив, но уже на подходе молодой сравнительно Марис Лиепа, один из лучших балетных артистов мира, гордость того самого балета, который был одним из немногих козырей наших в культуре перед «империалистическим Западом»; что умирает затравленный и по-настоящему так и не реабилитированный Тарковский; только что покончил с собой блестящий, но непризнанный ученый, создатель спасительной «голубой крови» (перфторана) Белоярцев и много, много малоизвестных, задавленных молчанием СМИ и «коллег-специалистов» изобретателей, ученых, конструкторов; только что вернулся из позорной ссылки (надолго ли?) академик Сахаров; по-прежнему лишен гражданства на родине Солженицын – да и он ли один?… – и в стрессе, забвении, непризнании гаснет множество достойных и пока что живых. И под самозабвенные, прямо-таки восторженные причитания о мертвых, расстрелянных, уморенных раньше, в стране неудержимо растет количество самоубийств и убийств теперь.
Но – слава Богу! – чаще и чаще мы все же теперь оглядывались… А и правда: почему же это, а?…
Три интервью
Но, может быть, все-таки…
Поначалу – тотчас же после выхода повести, – когда опубликованы были «Диалог по прочтении рукописи» в популярнейшей газете и колонка в «Известиях» и уже состоялись мои встречи с японцем и американцем, в числе звонков было четыре от корреспондентов наших газет, которые хотели взять у меня интервью. Две центральные и одна московская. Что касается одной из центральных, то в нее уже трижды (!) обращалась редактор журнала, опубликовавшего «Пирамиду», с предложением напечатать беседу с автором повести, однако ей трижды отказывали – сначала неопределенно, а потом окончательно. «Они Вас боятся, вы это знаете?» – сказала мне в конце концов редактор. Но вот из той же газеты позвонила другая корреспондентка – с просьбой дать интервью. За две встречи мы этот «материал» сделали. Он был готов в январе. Как рассказала она, его несколько раз ставили в номер, но он «вылетал». Опубликован был лишь в конце июля – через семь месяцев после написания! – да и то с сокращениями, которые сделали его не только устаревшим, но и беззубым.
Два других вышли раньше, но лучше бы они не выходили совсем. Первый – в центральной газете – писал молодой журналист, дипломник. Как он беседовал со мной, мне не понравилось, однако материал на утверждение принес блестящий. Я не ожидал и, разумеется, дал немедленное согласие. Однако уже на уровне заведующего отделом наше интервью изуродовали до неузнаваемости, а потом – как он признался мне позже – заставили написать заново. Но и этот, второй вариант, гораздо более слабый, чем первый, изуродовали до такой степени, что, когда он вышел, молодой журналист даже не решился меня о том известить: было стыдно. Узнал я о выходе этого «материала» совершенно случайно, от друзей.
В московской газете материал получался слабее, но в принципе неплохим. Я посоветовал журналисту заручиться «железным» обещанием редактора отдела: либо печатать целиком, либо не печатать совсем. «Железное» обещание было получено. Материал вышел обрезанным ровно наполовину – естественно, за счет «острых» мест. Он назывался: «Выходя из тоннеля». Так вот что касается «тоннеля», то он-то как раз с «легкой» руки редактора отсутствовал начисто. Получалось, что из тоннеля мы, якобы, уже вышли давно.
Все это происходило в разгар «гласности», и читателям трех этих газет, вероятно, даже в голову не приходило, что и теперь у нас может твориться такое.
Я же не имел никакой возможности доказать читателям, что я «не верблюд». Крики боли и просьбы о помощи в письмах, исповеди, откровения, искреннее желание, но и осознание невозможности помочь крепко держали меня в состоянии стресса.
Визит «неформала»
Побывал у меня и представитель одного из «неформальных объединений». Красивый, рослый молодой человек появился на пороге моей квартиры после того, как по телефону мы договорились, что он придет. По телефону же он сказал, что является родственником одного из членов Союза Писателей, «Пирамиду» не читал, но много о ней слышал, а привлечь меня к работе их объединения рекомендовал ему именно его родственник, тот самый Член. Естественно, мне показалось странным, почему же не позвонил сам родственник-член, если он так хорошо отзывался о моей повести, и почему молодой человек, представитель «объединения», не удосужился хотя бы посмотреть повесть, к автору которой он направлялся… Но было любопытно, и я согласился его принять.
Разговаривая со мной, молодой (лет двадцати пяти) человек, очевидно, как-то невольно вел себя так, словно оказывал мне большую честь, предлагая примкнуть к «объединению», и начал подробно и со значительностью излагать программу их организации, которая называлась, если правильно помню: «Честь и достоинство».
Когда в ответ я высказался в том плане, что, мол, зря он сначала не почитал мою повесть, а то ему не надо было бы тратить столько времени, чтобы объяснять мне то, что в повести написано черным по белому, он обиженно насупился и сказал, что, мол, хорошо-хорошо, он обязательно почитает, и если это действительно так, то никто, мол, не будет лишать меня приоритета… Я ответил, что приоритет тут вовсе не мой, а всех лучших сынов человечества, начиная с Христа, а может быть и раньше, да и у нас на Родине тот же Достоевский говорил о необходимости равенства человеческих достоинств, к примеру, вон еще когда… Но молодой человек безнадежно чувствовал себя ущемленным и для поддержания престижа своей организации сказал, что, мол, их организацию обещал поддержать даже… И он назвал имя писателя, автора довольно слабенькой, с моей точки зрения, повести о прошлом, поддержанной и на все лады расхваленной критиками. И звучало это так, что, мол, вон кто нас поддерживает, не тебе чета…
И на таком-то уровне собираются молодые люди воевать за восстановление гражданского достоинства советских людей, которое растаптывалось десятилетиями! Грустно было смотреть на этого симпатичного, молодого и, очевидно, смелого человека, который при всем при том не понимал элементарных вещей. Смогут ли такие, как он, спасти Родину?
Телевизионная встреча
Как я мечтал о телевизионной передаче в связи с «Пирамидой»! Нет, не ради себя вовсе. Я представлял героев этой повести в телестудии – Каспарова, Беднорца, Румера, двух заместителей Председателя Верховного Суда СССР, члена Военной коллегии, судей из Туркмении, может быть, даже самого Клименкина, его невесту, давно ставшую женой… Разумеется, и Главного редактора журнала, и – ради бога! – Первого зама. И, конечно, видных наших юристов… Увидеть воочию участников происходившего, героев нашего времени! Собранных вместе, высказывающих свое мнение о том, что происходило, о правоохранительной системе страны! Если уж повесть, опубликованная в журнале, так взволновала читателей, вызвав такую почту, то что же говорить о резонансе, который был бы от такой передачи!
Увы, какое там телевидение. Пресса – и та по-прежнему молчала.
Не случайно предательство считается одним из самых страшных грехов. Да ведь понятно: от врагов ты защищен. Враги они на то и враги, что ничего хорошего ждать от них не приходится. Друзья, родственники, единомышленники – это наш тыл. На кого ж полагаться, как не на них? Если кругом одни лишь враги, если нет друзей, близких по духу, единомышленников, то жизнь просто теряет смысл. Бороться только за себя – глупо, неинтересно, скучно.
Бороться по-настоящему можно только за дело, то есть за других, за нечто общее, которое делает тебя частью целого и возвышает. Поэтому я и хотел, чтобы люди в связи с «Пирамидой» задумались!
Журналу, опубликовавшему повесть, я был, естественно, благодарен. При всех неприятных моментах, которые все же имели место, нельзя было не оценить мужество главного редактора прежде всего. Как бы там ни было, но ответственность за публикацию перед высшей властью несет он – при нашей централизации и повсеместном единоначалии спрашивают обычно с начальника. Остальные в сущности пешки. Их могут, конечно, выбрать в качестве «козлов отпущения», но это лишь в том случае, если помилуют главного.
И то, что завотделом меня пригласил, а начальство не позвало на встречу с читателями в том самом НИИ, сначала, конечно, царапнуло, но потом забылось. Хотя, честно говоря, то, что за прошедшие месяцы журнал ни разу не вспомнил о моем существовании, если не считать бесконечных пакетов с письмами, аккуратно пересылаемых по моему домашнему адресу, меня удивляло. Создавалось странное впечатление, что опубликовав повесть, ставшую если не самой, то одной из самых значительных публикаций года в этом журнале – судя по количеству писем, звонков, устных отзывов, – редакция совсем забыла о ее авторе. Доходили слухи то об одной, то о другой встрече редакции и авторов журнала с читателями. Меня не пригласили ни разу.
И вдруг совершенно случайно от одного из друзей я узнал, что состоится телевизионная передача о встрече читателей с редакцией и авторами этого самого журнала. Узнал я это как раз в день передачи – у меня не было телевизора, и я не следил за программой. Как?! Неужели? Не может же быть, чтобы они опять не пригласили меня… И мы с женой поехали к ней смотреть передачу (мы жили с женой отдельно, у меня телевизора не было).
Да, передача шла в записи. Да, встреча с читателями этого самого журнала. Да, многие авторы публикаций того самого года – повестей, рассказов и даже статей.
Никем ни разу не было сказано ни слова о «Пирамиде». Как будто ее просто не было.
Вел встречу Первый зам. Именно он казался главным, а вовсе не главный редактор, который тоже присутствовал и даже что-то говорил, но как-то тускло, на втором плане.
А ведь даже по объему «Пирамида» была одной из трех крупнейших публикаций года. И получила больше всех писем, как мне уверенно сказали в редакции.
«Коллеги»
В начале 1988-го года состоялось Собрание писателей Москвы, посвященное «перестройке». Не «отчетно-выборное» и не посвященное «красной дате», и не Конференция, не Пленум Правления, куда приглашаются только избранные. Демократическое, открытое, без пропусков и кажется даже без регистрации присутствующих. Уже прошел знаменитый Пленум Союза кинематографистов, на котором впервые демократическим путем сменились вожди Союза – забаллотированы были почти все прежние бессменные «зубры», и к рулю пришла «молодежь». В Союзе Писателей перестройка пока не проявлялась никак – все до мелочей оставалось по-прежнему, разве что первый секретарь Московской организации сменился, но и то лишь потому, что прежний сам оставил свой пост и перешел на другую работу. Нового выбирали из нескольких «альтернативных» (модное стало слово) кандидатур, однако право голоса имели лишь прежние члены Правления, а потому прошел самый консервативный из кандидатов…
Но закончился ведь уже третий год «перестройки», и перемен ждали все.
Большой зал Центрального Дома литераторов – на шестьсот с лишним мест – был заполнен до отказа, люди сидели и стояли в проходах, в фойе, микрофоны были выведены и в Малый зал, который тоже был полон. Собралось что-нибудь около полутора тысяч столичных писателей – почти весь наличный состав… К трибуне было не протолкнуться.
Начинали, как всегда, «генералы», и очень скоро стало ясно, что ничего нового на этом собрании не произойдет. С особым вниманием ждали выступления нового первого секретаря, но он говорил не о перестройке в Союзе Писателей, не о насущных нуждах страны, не о катастрофическом духовном и нравственном кризисе. Главное содержание его речи составляли литературоведческие рассуждения о языке и поэтике Маяковского, над книгой о котором он в настоящее время работал…
Говорили, конечно, и о наиболее заметных произведениях последнего времени, называя привычную, многократно закрепленную в прессе «обойму». Слово получил заведующий отделом журнала, опубликовавшего «Пирамиду», Валентин Оскоцкий – тот самый, который на редколлегии, помнится, заявил, что «если повесть будет опубликована, она станет заметным явлением в литературе». Несколько произведений из «обоймы» он разобрал, остальные просто упомянул. Особо отметил, конечно, те, что опубликованы в прошлом году в журнале, где он заведует прозой. О «Пирамиде» не было сказано ни слова. Ни им, ни другими выступающими. Как будто ее просто не было.
Но при всем при этом в перерыве ко мне подходили знакомые и незнакомые писатели, жали руку и от души поздравляли с выходом «отличной, современной, смелой вещи». А один из них пожал мне руку и прочувствованно сказал: «Ваша «Пирамида» – это наша Брестская крепость!»
Литературоведы и критики
Закончился год, и в газетах, журналах публиковались годовые литературные обзоры. В ходу была все та же «обойма». Сталина раскладывали на лопатки, пинали, плевали, топтали, как только ни изощрялись. «Сталинизм», «сталинщина» стали, пожалуй, самыми модными словами – наряду с «гласностью» и «перестройкой». То, что предшествовало сталинскому периоду, носило печать «табу», все, связанное с Лениным, считалось святым, лучезарным, а вот Сталин – это исчадие ада. Вельзевул, сатана, он как бы вынырнул из истории внезапно, опоганил все, что было создано Лениным и большевиками с таким трудом, отравил последние годы Вождя партии и Революции, а потом извел одного за другим чуть ли не всех верных ленинцев, сведя на-нет победоносную ленинскую гвардию. Возникал вопрос: что же это за гвардия, если ее так легко мог извести всего один человек? И что же это за могучий человек, который смог! И где были все остальные – участники и наблюдатели? Все это уже было до боли знакомо еще по «хрущевской весне», хотя Сталина тогда еще так не пинали… «Брежневские годы застоя» теперь осуждались как-то чохом, в детали и подробности пока еще не вдавались.
Журналы теперь наперебой печатали «вытащенное из столов», об этом взахлеб писала и критика. Появилась еще одна модная тема: ах, какое безобразие, ах, как их зажимали при жизни. Из более близких по времени особенно жалели Высоцкого, тем более, что отмечали пятидесятилетний юбилей безвременно ушедшего из жизни поэта. Кто только ни писал о нем и особенно усердствовали, похоже, те, у кого совесть перед его памятью была не совсем чиста. Это была какая-то эйфория жалости, бичевания и самобичевания, но если последнее, то с этаким благородным оттенком: мол, недооценили, недоглядели, но что же делать, не знали многого, не ожидали, что так… Да ведь время было проклятое – вот если бы он жил теперь…
О «Пирамиде» по-прежнему не было практически ничего, если не считать короткой рецензии в ленинградской газете «Смена» и двух небольших статей в малотиражном литературоведческом журнале, одна из которых, собственно, была развернутым повтором рецензии «Смены». В том же номере литературоведческого журнала было сразу два больших обзора журнальных публикаций за прошлый год, разбирался и журнал, напечатавший «Пирамиду», однако ни в одной из статей ни повесть, ни фамилия автора не упоминались ни разу.
Это становилось уже интересным, тем более, если учесть, что автор одного из обзоров работала заведующей отделом прозы в «моем» журнале раньше – как раз тогда, когда там печаталась моя предыдущая повесть. И, вроде бы, она всегда хорошо ко мне относилась.
Еще интересней то, что на юридические темы – сегодняшние! животрепещущие! – стало даже модно писать. «Литературная газета», «Огонек», «Московские новости», «Социалистическая индустрия», «Известия»… И юристы, и журналисты наперебой «поднимали тему». Хоть бы один из них вспомнил о «Пирамиде», этой все же самой большой по объему публикации на криминальные темы, да еще и с попыткой анализа, да еще в одном из самых популярных журналов… Увы, никто. Мистика!
«А была ли повесть? – спрашивал я сам себя подчас.
Но ведь письма по-прежнему шли потоком, и все еще продолжались звонки. В некоторых конвертах, как я уже говорил, были даже готовые, напечатанные на машинке, но так и не опубликованные, рецензии на «Пирамиду» – некоторые из них очень толковые! – было даже прислано мне несколько страничек из маленьких периферийных газет с вышедшими-таки статьями. Но центральная пресса молчала глухо.
Действительно: а была ли повесть? Был даже такой момент, когда я вытащил оба номера журнала и внимательно рассмотрел их, чтобы удостовериться… Была. Вот она. И писем – гора. В чем же все-таки дело?
И вот еще любопытно: слово «пирамида» по отношению к нашей системе – «пирамида власти», например – стало употребляться очень часто, это заметили все мои знакомые. Пусть не с моей повестью это связано, пусть «идея носится в воздухе», но… За что же так-то, граждане?
Тут пришла весть совсем удивительная: областная газета «Марыйская правда» печатала «Пирамиду» целиком, из номера в номер! Вот это да! Правда, редакция не удосужилась меня, автора, не то что спросить, но хотя бы известить, я узнал об этой публикации случайно! Ну, да бог с ними. Главное: печатают! И где – в газете обкома партии! «В Мары Ваша повесть произвела впечатление разорвавшейся бомбы, – писал мне житель Мары, знакомый Каспарова. – После выхода журнала редакцию газеты, говорят, засыпали письмами жители города с просьбами опубликовать «Пирамиду», и вот, решились…» Я, честно говоря, не поверил сначала, просил выслать мне если не всю подшивку, то хотя бы несколько номеров, два номера мне прислали – все верно!
Итак, даже там…
«Братья, соратники, сослуживцы, коллеги! – думал я в смятении. – В чем же дело? Почему?! Вы же звонили мне и говорили при встречах. И за глаза говорили, я знаю, мне же передавали. Ни одного плохого отзыва я не слышал! Так в чем же дело? Или проблемы нет? Но вы же пишете на эти темы, вы выступаете и со статьями, и так… Почему же тогда…»
Поражало отсутствие логики. Ну, хорошо, ну пусть это «чистая публицистика, а вовсе не проза», ибо форма непривычная. Допустим. А что публицистика – плохо? Плохая публицистика? Ну так письма почему же в таком количестве – и какие! Да что письма – ведь звонили, сами говорили и при встречах, никто ж за язык не тянул. В чем же, в чем же дело?
Обсуждение В ЦДЛ
Еще в конце года мне позвонили из секретариата и спросили, не возражаю ли я против обсуждения повести в Гостиной Центрального Дома литераторов? В этом, собственно, не было ничего экстраординарного – у нас принято обсуждать почти все публикации среди коллег, обсуждали однажды ведь и мой сборник. Я согласился, хотя и не без тревоги. На обсуждении сборника, помнится, было едва человек десять, а читали вообще четверо, остальные пришли потому, что вместе с моим обсуждали и еще один сборник. Молчание прессы уже тревожило и раздражало: а ну как придут вообще два-три человека, для моих нервов это будет испытание серьезное, а главное – и не нужное. Все же я согласился. А когда опубликовали календарный месячный план «мероприятий», увидел, что в тот же день и на то же время наметили демонстрацию нового американского фильма в Большом зале. Смутное было у меня настроение, и я, в конце концов, позвонил в секретариат и попросил «обсуждение» перенести. Перенесли на январь. Я пригласил и своих знакомых, которые сумели оценить «Пирамиду», а те позвали своих. Кроме того, позвал некоторых из авторов писем, москвичей, а также кое-кого из героев повести – Беднорца, Сорокина…