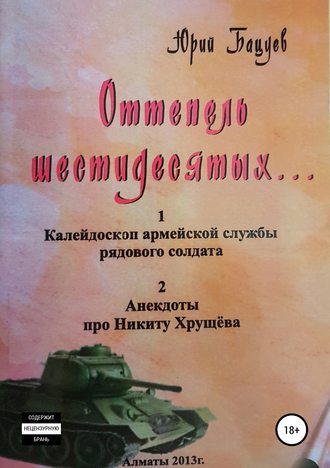
Оттепель 60-х
– Что-то не похоже на Травкина, – заметил Лебедев. – Наконец-то и ты становишься «символистом», не один Шварцман.
– Ах, вам нужен «реализм»? – встрепенулся Юра Травкин. – Так вот он, перед вами. – При этом он стал разворачивать холст, на котором масляными красками был изображён я. Это был тот самый портрет, который Травкин писал с меня. А я позировал у него в мастерской ровно три с половиной часа. – Пусть Раида увезёт его домой в свою Алма-Ату и хранит на память обо мне и нашей встрече в этой гостинице.
Расставание
…Однако настала пора расставания. Благодаря благосклонности майора и моей, как никогда напряжённой, работе в штабе, и чёткому выполнению приказов и придирок старшины (что меня больше всего напрягало), нам с женой удалось побыть вместе восемнадцать суток.
И когда она уехала, майор, узнав о том, что у неё техническое образование – она окончила Ленинградский политехнический институт, – очень огорчился: «Да если бы я знал, что она разбирается в чертежах, я бы предоставил тебе возможность ходить к ней хоть месяц. Мне нужно сделать технические чертежи для института». Он учился заочно в вузе.
…Поезд уходил медленно, постепенно набирая скорость. Казалось, он вот-вот остановится и она, моя любимая, которая стала ещё роднее и ближе, выскочит из вагона и бросится мне на шею, как при встрече, а не простится, как это было несколько минут назад, скромно со слезинками на глазах. Но поезд, набирая обороты, удалялся. Я не стал ждать, когда он скроется, круто повернулся и вошёл в тоннель. Всё во мне было ещё наполнено ею. Я ощущал её объятья, её дыхание. Словно она была рядом. Разлука не вязалась. Она потом заставит себя осознать. Это я знал. Тоннель вводил в вокзал. Люди были те же. Всё оставалось прежним, только она уносилась от меня всё дальше. Искра безысходной тоски пронзила мою душу. Пачку папирос на вокзале в киоске я покупал как во сне, потом медленно прошёл в курилку. Двое мужчин стояли, привалившись к стене, и сосредоточенно курили, будто выполняли задание, требующее особого внимания. Задумчивые мужчины так и остались стоять, жадно вдыхая сизый яд дыма, когда я вышел из помещения и быстро зашагал к центру города. По дороге вспомнил её прощальные слезинки, и спазмы перехватили грудь, но это длилось секунды. Я отогнал мысли о ней до других времён и постарался переключиться на то, что ожидало меня впереди.
Вверху на небе звёздная даль искрилась россыпью серебра и влекла своим бескрайним простором, звала от всего суетно-мелкого в великую бесконечность. А земные городские огни уже не звали никуда, не манили. Они просто сияли жёлтым электрическим светом и освещали улицы, машины, людей. И я, выхваченный этим светом из темноты, шёл, теперь уже один, удаляясь от любимой в сторону казармы – в эту ненужную для нас «суровую необходимость».
…С шефом у нас были взаимоотношения, исключающие излишние эмоции. Он не был со мной фамильярен или высокомерен. А я, несмотря на вспыльчивый темперамент, не был с ним «ершист». Внешне он был похож одновременно и на Собакевича – гоголевского персонажа, – и на лидера Временного правительства революционной России – Керенского. На рисунке, изображённом в школьном учебнике, Собакевич имел причёску «ёжика». Такая же причёска была и у Керенского. Шеф был сутуловатый, как гоголевский герой, но лицом похож на Керенского. И, конечно, он не был таким по-медвежьи неуклюжим, как Собакевич, и не топтал своими ногами чужие стопы, но что-то в фигуре и даже росте было у него от гоголевского персонажа. Хотя, если его выпрямить, он был бы точной копией Керенского. Три года я провёл возле него, но так, будто и не был рядом. Он давал мне задания, я их выполнял. Я бы, наверное, и фамилии его не запомнил, если бы она не произносилась ежедневно. В армии нет имён – только звания и фамилии.
Накануне дня Советской армии, когда приказ о поощрении личного состава был утверждён и подписан командиром полка, майор Ермакин перед уходом на обед мне сказал: – Тебе объявлен отпуск, только поедешь не сразу, а недельки через две.
Признаться, я опешил и вытаращил на него глаза. Майор слегка улыбнулся и неспешно закрыл за собой дверь. Другой бы на его месте выкинул что-нибудь экстравагантное и уж точно заставил меня плясать вприсядку. А этот лишь улыбнулся. Но этим-то он и был по-настоящему оригинален и достоин всяческого уважения.
Майор Ермакин оказался прав: в штабе заслужить отпуск легче, потому что ты «на виду» и поэтому многое зависит от тебя самого.
Впереди меня ожидали снова «красные» дни. Если лететь на самолёте, а не ехать на поезде, то можно выкроить восемь дней, что в совокупности с десятидневным отпуском составит восемнадцать суток. Их я снова смогу провести со своей любимой женщиной.
Постскриптум.
Служба в армии у меня оставила не очень приятные впечатления. Демобилизовавшись, я окунулся в активную жизнь. Прежде всего, восстановился в университете и устроился на работу в свою прежнюю геологическую организацию. Думать об армии вовсе не хотелось, и жаль было время, которое, как мне казалось, прошло совершенно бесполезно. Не знаю, когда в моей душе возникли две строчки, навеянные армией, и не помню, когда я их записал. Но они, то и дело попадались мне на глаза среди личных бумаг, возвращая память к прожитым, как мне казалось тогда, «бесполезно» дням и годам:
«Тоскою дикою снедаемый когда-то
Прикован к плацу был я долгом строевым…»
Прошло семь лет после армии, я окончил с отличием филфак; помимо основной работы, связанной с геологией, я стал активно сотрудничать в газетах и даже был внештатным корреспондентом одной из них. Но отношение к армии у меня не выходило за рамки приведённых выше строк. Хотя, надо отметить, что постепенно я добрел и всё чаще вспоминал своих «творческих» армейских друзей. С некоторыми доводилось встречаться, когда мы с женой появлялись проездом в Москве.
Время неумолимо шло, а вместе с ним проходила и наша жизнь. И самое странное было то, что чем дальше я удалялся от своей солдатской поры, тем теплее становилось моё отношение к ней. А однажды я наконец понял, что три года – это же ерунда при условии, если судьба тебе отмерила долголетнюю жизнь.
Наступил семейный юбилей – 10 лет нашей совместной жизни с Раидой. Той женщиной, чью фотографию я носил у сердца во время службы в армии, и которая ждала целых три года моего возвращения домой.
Нахлынули воспоминания, а вместе с ними всплыли две строчки, касающиеся моего отношения к армии. Я вдруг осознал, что не будь к тому времени у меня неистребимой любви к Раиде, неизвестно, как бы закончилась моя служба. Та тоска по любимой женщине, которую я испытывал на протяжении трёх лет, постоянно мобилизовала меня и целеустремляла. Она была самым главным катализатором моих чувств. И я вдруг понял: вот о чём мне надо сказать в день Юбилея дорогому мне человеку. А те две строчки, которые некогда зародились во мне, неожиданно проявились и нашли своё дальнейшее развитие, превратившись в стихотворение о долге и любви. Любви, которая помогла мне преодолеть необходимость пребывания в рядах неприемлемой мной армии.
Посвящается Раиде
Тоскою дикою
Снедаемый когда-то
Прикован к плацу был
Я долгом строевым.
В суровом рубище
Обычного солдата
Я службу нёс не ревностно,
Но свято,
И говорят,
Был внешне боевым.
Да, внешне был простым
Мой мир душевно-сложный…
Попав в обстрел команд
Докучливых старшин,
Я должен был нести
Долг, на меня возложенный,
И никаких не брать
Сверхплацевых вершин.
И лишь к тебе одной
Из беспросветной темени
Тянулись вязью
Мои горькие слова
О том, что вечное
Застопорилось время
И в бездне дней его
Увязли жернова.
Живые листья
Отмирали осенью,
И стужа хмурая
Витала в облаках…
Но ты была
Моей весенней просинью,
Живительным лучом
Издалека.
…Тоскою дикою
Снедаемый когда-то
Прикован к плацу
Был я долгом строевым…
«Дембельский» год
Солдатская притча:
« Дембель неизбежен, как крах
капитализма»
Из записной книжки:
3.01.64г
«До приказа о дембеле осталось 35 недель. Не мешало бы в будущем написать что-нибудь об армии наших «мирных» дней. На всякий случай надо приобрести Уставы воинской службы. Надо пристальнее всматриваться в жизнь, без смущения расспрашивать обо всём и учиться у всех делам и мудрости. Жажда знаний приоткроет завесу всего неведомого до сих пор. Узнал: оказывается, об уставах нечего и думать – нельзя забирать их на гражданку».
Вторая «целина»
В прошлом году в самый апогей зимы – в феврале – проходили дивизионные учения в Мордовии. Обычно такого уровня учения проводят, с одной стороны, с целью отработки навыков ведения боёв в зимних условиях, а с другой – это самое подходящее время для проведения танковых манёвров на свободных, так сказать, «отдыхающих» после сбора урожая, землях. Танки и другую технику передислоцируют железнодорожным составом в заданный район, и там разворачиваются «военные» действия. Причём делается это с минимальным ущербом для природохозяйственных угодий. В случае повреждения деревьев и каких-либо построек, к военным предъявляются юридические санкции.
На таких учениях меня обычно кидало из стороны в сторону в кузове штабной автомашины, оборудованной для оперативной деятельности старших офицеров полка. Машина эта передвигалась в непосредственной близости от командира полка, который мог в любой момент собрать офицеров для согласования целевых действий. На дивизионных учениях всё находилось в постоянном движении, невзирая на время суток: день на дворе или ночь. Проезжая через Саранск и другие населённые пункты, я, находясь в штабной коробке, как правило, один, тоскливо наблюдал за освещёнными окнами мелькавших домишек. Почему-то в сельских жилищах всю ночь горел свет, а на окнах не было даже занавесок, и всё убожество высвечивалось наружу.
В тот раз в закутке кузова я наткнулся на термос, который бросало во время движения машины с одного места в другое. Очевидно, заботливая жена командира полка перед отъездом сунула этот термосок с горячим чаем или кофием мужу в дорогу, надеясь, что это напомнит ему о доме и о ней в походе. Да только внутри термоса давно уже издавали скребущее-шуршащие звуки осколки стекла, смешанного с жидкостью.
Почему-то именно этими огнями, освещающими жалкие жилища, да беспокойно-шуршащим термосом запомнились мне, рядовому солдату, «бои», проходившие в Мордовии. Остальное было вне поля моего обозрения. Когда-то услышал я слова военных: «Не спи до самых учений, на учениях отоспишься». Это относилось сейчас ко мне…
Однако в моём «дембельском» году для меня было уготовано другое назначение.
…Где-то в родном моём Казахстане от морозов и вьюги случился большой падёж скота. Появилась необходимость помощи военных в оперативной доставке комбикормов в животноводческие хозяйства. С этой целью из нашей дивизии был срочно направлен «контингент» военнослужащих, в основном шоферов, с необходимой автомобильной и тяжёлой танковой техникой. Меня, как побывавшего уже «на целине» в прошлом году, сочли целесообразным направить на передний фронт спасения отечественного животноводства в качестве, как и тогда, не то учётчика, не то писаря, по мере необходимости на месте.
И вот я уже на сборном пункте в городе Горьком у железнодорожного вокзала переписываю вагоны. Идёт загрузка людей и техники для отправки на место назначения. Перед этим я и ещё двое солдат пересчитали целую бочку гвоздей. Но это было позавчера. А сейчас мы подъезжаем к Саратову. В нашем вагоне объявился певец, прозвали его «Фёдор Шляпин». «Граждане, товарищи-сожители, разрешите мне петь, не могу жить без песни!» – то и дело выкрикивал он, потому что был «поддатый».
В 16-00 часов на одной из станций наш командир, подполковник, устроил у вагона «строевой смотр». Начал что-то говорить, но встречный поезд своим шумным шипением помешал ему. Он попытался было исправить положение, напряг голосовые связки насколько мог, но тут …раздался гудок, и солдаты засмеялись. Развеселило их беззвучное шевеление губ и размахивание рук подполковника. Потом, когда поезд отошёл, солдаты услышали командирское негодование:
– Вы опять показали свою недисциплинированность. Сейчас женщина спешила к поезду, а кто-то подставил ей ножку, и она упала. Разве можно так? – сокрушался командир. – У всех вас есть сёстры, матери, жёны и т.д… Вскоре нас завели в вагоны.
9.02.64г
Лежу на третьей полке в шубе, в валенках и жую чёрный хлеб. До Александров-Гая (наша конечная станция) по-прежнему сорок километров. Расстояние почти не сокращается, хотя едем с огромными перерывами с раннего утра. Почему-то вспомнил старшину Шмалько (командира комендантского взвода), который часто говорил, когда кто-нибудь жаловался: «Что это за жизнь, если жить и не мучиться».
10.02.64г
Вчера мы всё-таки доехали до Александров-Гая. И даже толкали автомашины от платформ, так как у многих не проворачивались колёса из-за того, что были на летней смазке. Командир ругался.
На платформе осталась последняя машина, кран уже почти поднял её над полувагоном, как вдруг состав дёрнулся, и два солдата, сидевшие на заднем борту, сорвались и упали внутрь вагона. Машину, подвешенную в пространстве, зацепило платформой и прижало к крану. А состав медленно двигался. Машина радиатором столкнулась с краном. Раздался стук, посыпались искры. Кран развернулся и подался назад, преградив путь вагонам. А так как был громоздким и тяжёлым, то своей массой разбил борта двух платформ. Крановщик едва выскочил из кабины и сперепугу куда-то исчез. Зависшая на тросах машина вертелась, наровя ударить по саманному дому. Поезд остановился, а может, остановили. Появился крановщик и, смачно ругаясь, опустил на землю разбитую машину. Потом все набросились на маневровщика, тот оправдывался, как мог. Крановщик, уже окончательно осмелев, кастерил всех матом громко и смело. Работы прекратились.
А дело происходило так. Подполковник Химич приказал водителю Потапову, чтобы тот сообщил машинисту тепловоза о том, что разгрузка закончена, и состав может двигаться. Потапов сказал об этом маневровщику, и поезд тронулся. Тут произошла «авария», инцидент, описанный выше. Я был свидетелем, как Химич давал указания Потапову об окончании разгрузки и того, что потом произошло. Тогда я сказал Потапову: «Вот что может наделать маленький человечек (подполковник был небольшого роста). Потапов огляделся по сторонам, ища глазами Химича. Но его не было – он куда-то исчез с места происшествия. Мы встретились взглядами с Потаповым, и я засмеялся. Потапов обиделся. Он был уверен, что Химич хороший человек и командир. И не хотел его подводить…
Впоследствии Потапов рассказал мне, что Химич подбежал к нему и с испугом спросил: «Ты сказал, чтобы платформы отправляли?» «Да, как вы приказали», – ответил Потапов. «Прошу тебя, никому не говори, что я дал тебе команду».
Но никто в шуме той неразберихи не подумал, с чего начался инцидент.
11.02.64г
Метель. «Вдоль по улице метелица метёт…» А мы загружаем комбикормом машины. Потом в «Чайной» пьём чай с лепёшками. После чего на машинах колонной продвигаемся по замёрзшей реке на восток в пределы Западного Казахстана. Лёд скользкий и гладкий, лишь местами запорошен снегом, позёмка сопровождает нас. Одну машину, перевозившую походную кухню, развернуло на 180 градусов.
Остановились в каком-то ауле, расположились в школе, попили чай. Сходили строем в баню, а ночью улеглись спать прямо на школьных партах.
12.02.64г
Ночью было холодно. Но с утра скалим зубы от смеха, вспоминая курьёзы прошедшего дня. Вчера, когда мылись в бане, отключился свет: многие оказались намыленными, а в тазах не было воды. Сейчас это выглядело смешно, просто было беспричинно весело. Вспомнили, что пока ехали, дважды буксовали в заносах, и к тому же кончился бензин. В общем, помехи были нескончаемы. Я понял, что здесь очень просто не уцелеть. Правда, не писарю, в качестве которого я здесь нахожусь. Но нынче край света – передний край.
Походную кухню мы назвали «крылатой кухней», того и гляди, получишь «самолёт», то есть останешься без еды – где-нибудь застрянет.
Не успели приехать, а уже считаем дни до отъезда. Осталось месяц и десять дней. Но их надо пережить. Говорят, будем здесь до 20 марта.
13.02.64г
Как мы и предвидели, «крылатая кухня» подвела с обедом, и мы самовольно пошли в совхозную столовую. Вечером меня вызвали «на ковёр». Командир и замполит поход в «Чайную» охарактеризовали, как действия «контры». А мне, как самому «грамотному», влепили трое суток ареста, и строго предупредили. Хотя идти в «Чайную» у меня даже денег не было, и я никого не агитировал. Но какой здесь «арест»? Просто надо воспринимать это, как «условный срок».
– Ежели ты «за штатом» и тебя послали на «целину», как же ты можешь быть хорошим солдатом? – говорили они мне. На что я тут же ответил: «Тогда и я должен о вас так же думать?» Чем ввёл их в состояние недоумения.
Из аульной школы переехали в районный центр «Фурманово». Расположились капитально в двухэтажном бывшем купеческом доме («Кремле»). Устроились хорошо. Затем обошли всё село. С местного «аэропорта» до Алма-Аты билет стоит 44 рубля, а до Москвы – 24. Отсюда до Уральска летают только «кукурузники». Погода солнечная, отличная, хотя и морозная.
Село «Фурманово» раньше называлось «Солониха». Дом, где мы расположились, принадлежал купцам Овчинниковым. Это была их дача на левом берегу реки Большой Узень. А на правом, где основной посёлок, – стоит каменный дом, построенный в 1904 году, в нём-то и жили Овчинниковы. А здесь были яблоневые сады, и было очень красиво.
Во время революции братья Овчинниковы (Пётр и Николай Артамоновичи) были арестованы. Пётру удалось известить об этом Ленина, их освободили. Был у купцов дом и в Уральске. Братья имели большие земельные угодья, которые сейчас находятся в ведомстве совхоза Пятимарский. «Земли, располагающиеся и ближе сюда – к «Фурманово», также принадлежали им», – рассказывал мне главный бухгалтер-казах, хорошо знающий историю края.
15.02.64г
Вскоре определился наш уклад жизни. Шофера активно завозили с Александров-Гая в основном по руслам замёрзших рек Большого и Малого Узеня комбикорма в животноводческие хозяйства, спасая таким образом скот от бескормицы и падежа. Мы, небольшой состав солдат, находясь при штабе, занимались хозяйственными работами и охраной объекта, куда входили, кроме жилого помещения, парк с машинами и ремонтные мастерские.
Наши начальники-командиры с утра оденутся в шубы и… никуда не едут – звонят по телефону целыми днями. Погода преимущественно морозная и вьюжная, поэтому руководство предпочитает находиться в тепле.
18.02.64г
С утра было желание записать, что жизнь наша устоялась, и мы окунулись в серые монотонные будни. И вдруг в половине шестого вечера командир, держа в руке телефонную трубку, резко объявил: – Всем тревога: угнали легковую машину Газ-69, ноль пятую.
Мы быстро стали одеваться. Он позвонил в милицию: – Минут десять назад у нас угнали машину, – и, повернувшись к нам, приказал: – Проверить личный состав!
…Оперативные действия командира увенчались успехом. Выяснилось, что ребята поехали за папиросами в магазин и вскоре вернулись.
20.02.64г
Нахожусь в ночном карауле. Зашёл в расположение. Кого разбудить и во сколько – непонятно. Стоявший в наряде до меня грузин всё перепутал. Прежде всего, решил я, надо разбудить повара в пять часов утра и узнать от него о других.
Скоро закончится февраль, последний мой армейский февраль. Запахнет весной, последней весной. Неужели наступит конец этой армейской жизни? Кажется, будто родился в армии. Достаю фотографию: «Вот ведь есть же у меня очень родной человек, которого я люблю безумно и дорог он мне». Часто теперь вспоминаю, как перед самым моим вылетом в часть из отпуска в прошлом году, Раида, провожая меня, поскользнулась в аэропорту – упала и ударилась головой об лёд. Всё её тело как-то расслабло. Я понёс её к скамейке, она шептала: «Ничего, ничего», – а ноги её, беспомощно-бессильные, свисали. Тут я осознал, как она дорога мне и как любима. На улице тогда тоже было прохладно и ветрено и Большая Медведица (Созвездие Гелики) высвечивала так же, как и сейчас, высоко над головой.
…Сегодня впервые наш командир выехал в ближайший взвод – 10 километров отсюда. Все смеются, вспоминая его ставшие повседневным штампом слова у телефона: «Химич на проводе».
Иногда из-за непогоды водители останавливались у нас до тех пор, пока не расчистят дороги. С 22 февраля задержалось целых четыре взвода. Спят в два этажа: на нарах и под нарами. Ждут, когда вертолёты доставят с Уральска горючее для танков, которые расчистят дороги и растащат застрявшие автомобили.
26.02.64г
Нахожусь в ночном сторожевом наряде. Охраняю грузовой автотранспорт, который всё ещё находится у нас в «Фурманово». Большинство машин с грузом. Шофера спят вповалку в нашем «дворянском гнезде». Снежная вьюга заметает покрытые брезентом автомобили. Утомившись от ходьбы по периметру охраняемого объекта, я временно укрылся от встречного ветра за стеной сарая. Очки мои беспокоят меня, их то и дело приходится протирать. Укрывшись в относительно тихом месте, я вдруг ни с того, ни с сего вспомнил эпизод шестилетней давности, когда нас, двух геологов, в маршруте застала примерно такая же вьюга. Только это было высоко в горах на границе Казахстана с Киргизией и не зимой, а в конце августа. Тогда с утра погода не предвещала ничего тревожного: светило радужное солнце. Мы верхом на лошадях ехали по горному перевалу, по обе стороны которого простирались вниз изумрудные от благоухающей зелени ложбины. Настроение было прекрасное. Это был завершающий в сезоне маршрут. Мы должны были опробовать в приграничной зоне родники – отобрать природную воду на различные виды анализов и, после возвращения, приступить к камеральным работам. С инженером Володей Колесниковым мы были почти одного возраста и как-то сразу легко сошлись характерами. И хотя он успел уже жениться, а я пребывал ещё в положении «неуёмного бычка», нам было о чём поговорить, естественно, кроме работы: ему повспоминать, а мне поделиться настоящими ощущениями в ожидании большой любви, не говоря уже о своих тщеславных намерениях.
И вот едем мы безмятежно по водоразделу, как вдруг поднялся порывистый ветер и окутал нас сначала очень подвижными лохматыми облаками, а потом холодными тёмными тучами, несущими ледяные крупинки снега. Не прошло и двадцати минут, как перевал покрылся снежным мраком. Что делать? Я предложил ускорить ход лошадей, чтобы побыстрее вырваться из высокогорного снеговорота. Но у Володи хватило ума, а может быть, вспомнились назидания институтского мэтра по технике безопасности, он резко остановил наше продвижение, и мы, скинув вьюки с лошадей, стали в срочном порядке ставить двухместную походную палатку, вбивая железные колышки по её краям. Ветер сбавил порывы, зато снег уже пушистыми хлопьями валил и валил с небес. Но нам не было страшно. Закрывшись изнутри в палатке и расстелив на кошму спальные мешки, мы, сидя на корточках, сначала утолили голод килькой в томате и хлебом, а потом, развалившись на спальниках, как всегда, о чём-то безмятежно беседовали.
Где-то снаружи по склону внизу начали раздаваться голоса чабанов, сгоняющих овец в гурты. Щёлканье хлыста и лай собак сопровождали выкрики пастухов. А когда совсем стемнело, у входа нашего убежища раздался голос: «Ой, кто тут? Можно к вам?» И мокрый с ног до головы «гость», не дожидаясь нашего ответа, буквально вполз в палатку. «Мы перегоняем баранов, спускаемся с жайляу в долину на зимовку, – говорил он. – Можно, я у вас погреюсь – продрог насквозь?» Отодвинувшись к бортам палатки, мы освободили для него место на кошме. Он не заставил себя ждать. Завалился между нами и через несколько минут раздался его храп. Похоже, он совсем измотался со своими баранами. Ночью чабан выполз из палатки и удалился к себе. А чуть свет утром явился и пригласил нас в юрту пить чай. Когда мы встали, было удивительно свежо, солнечно, и лишь кое-где остатки снега напоминали о вчерашней непогоде.
…Но сейчас здесь, на сторожевом посту, буря не унималась. Было по-прежнему холодно, ветрено и тоскливо. Ведь это был не солнечный Юг, а суровый северо-запад Казахстана. Приблизившись к уличному фонарю, вокруг которого кружились отнюдь не пушистые и умиротворяющие, а острые и всепронзающие, как иголки, ледяные снежинки, я взглянул на часы – без четверти пять. До утра далеко. Но настала пора будить повара – рядового Ткалина, знакомого мне ещё по «первой целине». Разбудив и перекинувшись с ним приветственными словами, я продолжил свой сторожевой путь по периметру, охраняя машины и корм для скота, находящийся в кузовах.









