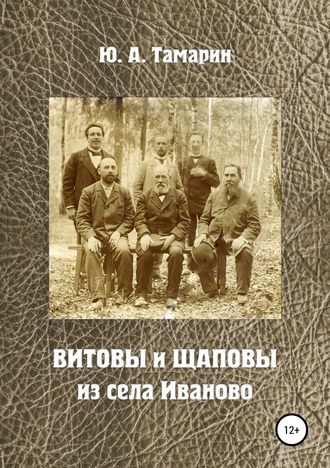
Витовы и Щаповы из села Иваново
На этой земле Александр Фёдорович начал строительство имения, которое он назвал «Богданово». Первоначально на фундаменте дома бывших владельцев Сухотиных был построен летний дом, а затем началось строительство большого дома в стиле модерн на высоком берегу Волги. Дом строился по проекту московского архитектора А. А. Галецкого[32].
Живописный, изрезанный оврагами правый высокий берег реки Волги, долина реки Кубани, впадающей здесь в Волгу, создают исключительный по красоте природный пейзаж. Вокруг дома был разбит парк, высажены сотни экзотических деревьев.
Александр Фёдорович, сам потомственный крестьянин, с удовольствием занялся земледелием и животноводством, для чего он построил небольшой хозяйственный посёлок с домами для работников. На маленькой ферме содержалась различная живность. Некоторое время держали двух медведей – Мишку и Машку. Однако они повзрослели, одичали, и с ними пришлось расстаться. В пруду около дома жили экзотические лягушата, которые каждую зиму вымерзали, и их заводили снова. В теплице выращивались различные растения и цветы.

Богданово. Новый дом. 1909 год

Надежда, Александр Фёдорович и дог Фрина. Богданово. 1909 год

Последние Витовы – обитатели Богданова. Екатерина (моя мама) и её двоюродный брат Александр. 1916 г.
Богданово было любимым детищем Александра Фёдоровича, в которое он вкладывал свои деньги и силы. Из окон большого дома открывался прекрасный вид на Волгу и заливные луга. Река была постоянным источником свежей рыбы, в специальных садках у берега держали стерлядь.
Особенностью Богданова был великолепный парк, разбитый Александром Фёдоровичем на высоком берегу Волги. Парком занимался Андрей Платонович Черкизов – известный в то время ботаник. Он приезжал сюда каждое лето, привозя с собой семена и саженцы. Террасы на крутом волжском берегу стали ботаническим садом, где можно было встретить растения с Дальнего Востока, из Южной Америки, из различных ботанических садов, где у Черкизова были хорошие знакомые – директора, и даже из Малайского архипелага. Черкизов высаживал в создаваемом парке и оранжерее экзотические растения: болотный финик, мохнатый непентес, непентес Рафлези, киноварный гемантуз, диксония антарктическая, дихоризандра мозаичная, которые произрастают в Каледонии, на Филиппинах, на островах Меланезии.
Купечество, вышедшее из крепостных крестьян, относилось недоброжелательно к дворянству, которое пользовалось привилегиями и высокомерно смотрело на купцов, стараясь показать своё родовое превосходство. Александр Фёдорович, не вникая в суть революционного движения, поддерживал людей, которые, по его мнению, боролись с этой несправедливостью. Поэтому в Богданове на электростанции некоторое время он скрывал Михаила Фрунзе. М. Фрунзе не забыл этого, и после революции никто из Витовых не был репрессирован и не был «лишенцем».
Местные крестьяне хорошо относились к Александру Фёдоровичу. Так же относился и он к крестьянам, любил ходить к ним в гости в близлежащую деревню.
После революции Александру Фёдоровичу оставили дом управляющего, где он мог жить. В главном доме создали санаторий, который стал называться «Трифоныч».
Но Александр Фёдорович не мог смотреть, как его детище становилось бесхозным, заброшенным, разорённым. Он продаёт дом и переезжает в старообрядческое село Чернопенье (расположено ниже Костромы на Волге). Здесь он купил дом, в котором поселился с женой и внучкой (моей мамой). В течение многих десятилетий имение, созданное Александром Фёдоровичем, служило людям, здесь располагался туберкулёзный санаторий.
Мои Витовы
Бабушка
Мои воспоминания о бабушке – Надежде Александровне Витовой (Щаповой) – начинаются с середины сороковых годов. С момента моего рождения до возвращения из Тбилиси в 1942 году бабушка меня не видела, это было связано с её крайне критичным отношением к моему отцу, она была против брака мамы с ним.
Первое воспоминание – я с мамой пришёл в гости к бабушке, дедушка уже умер. Я прыгаю на её огромной кровати из красного дерева, с позолоченной резьбой и не хочу уходить домой. Мы в это время жили на Садово-Кудринской улице, около планетария.
Бабушка резко выделялась из людей, которые встречались мне в повседневной жизни. Правда, в тот момент это мне, скорее, не нравилось, мне хотелось, чтобы она была, «как все». Она была среднего роста (160–165 см), с хорошей осанкой, никогда и ни при каких обстоятельствах не горбилась, стройная, а я помню её в возрасте старше 50 лет. Она следила за собой, пользовалась помадой и пудрой, что также смущало меня. Всегда ходила с покрытой головой – закрывала свои волосы особой домашней повязкой с большим бантом спереди, на улицу выходила в бархатном берете. Характер у неё был властный и требовательный. Это сказывалось на её взаимоотношениях с мамой и мной.
Бабушка никогда не стремилась «упроститься», скрыть своё происхождение, подделаться под окружающую её среду. Всегда опрятно одетая (одежду она шила и перешивала у портнихи), в туфлях на средних каблуках (даже в морозы). Её походка, посадка головы, взгляд показывали, что она из другого мира. Окружающие относились к ней с уважением и явным почтением. Однако это поведение не было высокомерием, в общении с людьми (например, летом в деревне) она умела быть простой и понятной им.
В 1946 году мама разошлась с отцом, и мы переехали к бабушке в Колпачный переулок (дом 4). Это была большая коммунальная квартира, в которой у нас было две комнаты: в одной жила бабушка, в другой – я и мама. С этого времени я постепенно стал для неё любимым внуком. Однако внешне она никогда не проявляла свою любовь и относилась ко мне достаточно строго.
Бабушка не выходила на кухню и не готовила. Этим занималась мама, а ранее – Лукерья Ильинична Синицына (тётя Луша), бывшая горничная бабушки, которая прожила всю жизнь рядом с нами. Бабушка не занималась всевозможными обсуждениями, которыми всегда полны коммунальные квартиры. Она общалась только с Любовью Орестовной Вяземской, которая жила в соседней комнате.
Любовь Орестовна происходила из дворянского рода Вяземских, была дочерью известного инженера-путейца, одного из строителей Транссибирской железной дороги Ореста Полиеновича Вяземского. Любовь Орестовна – первая русская женщина, обучавшаяся в Кембриджском университете. Затем, в возрасте 47 лет, она закончила физико-математический факультет Московского университета. В начале ХХ века Любовь Орестовна открыла первую частную женскую гимназию, в которой учились Лиля Брик и её сестра, известная писательница Эльза Триоле. Многие годы Любовь Орестовна возглавляла кафедру иностранных языков в Московском институте инженеров транспорта (с 1938 по 1960 годы).
После появления телевидения мы по приглашению Любови Орестовны приходили в её комнату смотреть театральные постановки на крохотном экране телевизора «Ленинград».
Из родственников к нам часто приходила тётя Лиза (Елизавета Ефимовна Дербенёва), двоюродная сестра бабушки (дочь Анны Фёдоровны Дербенёвой (Витовой)) и её подруга с детских лет.
Бабушка часто и тяжело болела: ещё в детстве, играя в «гигантские шаги» (высокий столб с привязанной на верху верёвкой, держась за которую можно делать большие прыжки), она ударилась бедром о столб. В результате у неё возник абсцесс на кости, который был залечен, но затем в продолжение всей жизни возникал в других местах. Позже говорили, что это костный туберкулёз, но точного диагноза поставлено не было.
Мы жили очень скромно, только на небольшую зарплату моей мамы, она работала в «Гипроавтопроме» сначала техником, позже инженером по проектированию автомобильных заводов. Нужны были средства для жизни, и бабушка постепенно продавала свои вещи, на которые всегда находились покупатели. Часы, фарфор, хрусталь, платья, страусовые веера, книги, рисунки Коровина – всё это медленно покидало дом и превращалось в продукты. Помню визит Лидии Руслановой, купившей большой позолоченный тульский самовар. Постепенно продавалась и мебель. Огромная спальня красного дерева в стиле Людовик XIV сохранилась чудом – собравшийся её купить врач был арестован в 1953 году.
В 1947 году бабушка пошла работать в Зоологический музей при Московском университете (МГУ) контролёром. У неё короткая трудовая биография, но она хорошо характеризует бабушку.
В её трудовой книжке заполнена одна страница:
«Зоологический музей Московского ордена Ленина государственного Университета им. М. В. Ломоносова.
11.05.1946 г. – Зачислена на должность сторожа зоомузея.
01.07.1947 г. – Числится в должности контролёра.
16.09.1950 г. – Освобождена от работы по состоянию здоровья».
За это короткое время записей поощрения и награждения – 2 страницы.
«08.03.1948 г. – В день Восьмого Марта за хорошую работу объявлена благодарность.
08.03.1949 г. – В Международный женский день объявлена благодарность.
01.05.1950 г. – За исключительно внимательное отношение к посетителям, участие в организации выставки по пчеловодству и за выполнение работы сверх своих непосредственных обязанностей объявлена благодарность.
15.09.1950 г. – Отмечая образцовую и безупречную работу, а также за проделанную большую и ценную работу, далеко выходившую за рамки занимаемой ею в музее должности, дирекция Зоологического музея объявляет благодарность».
Я хорошо помню бабушку, сидящую при входе в залы музея и проверяющую билеты. Однако внешность, образованность, свободное владение французским и немецким языками выделяли её из окружающих. Сотрудники музея обращались к ней за консультациями: о жизни в европейских странах, в Африке, за помощью в переводах. Её заметили учёные, работавшие в музее и университете. Имевшийся у неё небольшой походный барометр постоянно просили дать в экспедиции. Известный художник-анималист В. Ватагин подарил ей в 1948 году несколько своих рисунков.
В 1950 году бабушка тяжело заболела, и ей пришлось уйти из музея. Сотрудники музея в знак уважения написали бабушке письмо.
«Глубокоуважаемая и дорогая Надежда Александровна!
С чувством большого сожаления мы, Ваши друзья и товарищи по работе, узнали, что по состоянию здоровья Вы вынуждены оставить работу в музее. С Вашим уходом наш коллектив теряет одного из лучших членов, а наш музей лишается весьма полезного и преданного делу сотрудника, способность, инициатива и энергичная деятельность которого далеко выходили за пределы той скромной должности, которую Вы занимали. В нашем коллективе Вы пользуетесь общим уважением, симпатиями и любовью.
Мы ценим Вас за Ваш прекрасный ровный характер, сердечность, чуткость, отзывчивость и такт в обращении с людьми.
От всего сердца мы желаем Вам скорейшего поправления Вашего здоровья и выражаем надежду, что Вы не премините вернуться к работе в музее, чего мы все горячо желаем.
Подписи: директор Музея С. Туров и 25 сотрудников».Бабушка была умным, талантливым человеком, во многом похожим на свою прабабку – Прасковью Ивановну, основательницу красильно-ткацкого производства в г. Иваново-Вознесенске, но она жила во время, когда её таланты не были нужны.
Работая в музее, бабушка увлеклась пчеловодством. В возрасте 56 лет она поступила в Институт усовершенствования знаний специалистов сельского хозяйства и окончила Высшие пчеловодческие курсы. Всё лето (1948 г.) мы провели в деревне Крюково (ст. Снегири), где была небольшая пасека от университета (10 ульев). Я хорошо помню эту пасеку и терпеливо выносил укусы пчёл, иногда ходил с заплывшими глазами. А бабушка использовала пчёл и для лечения.
Чтобы отделить себя от матери моего отца, которую я в Тбилиси называл «бабушка», она научила меня называть себя «тётябабушка» (пишу вместе, как я это произносил в детстве). Помню себя кричащего со двора в её окно на третьем этаже: «Тётябабушка, тётябабушка, можно я ещё погуляю?» Когда посторонние люди стали меня спрашивать: «Кто она тебе – тётя или бабушка?», я впервые задумался. Однако продолжал её так называть и обращался к ней всю жизнь на «Вы», другого не мог представить.
В житейских вопросах бабушке помогала тётя Луша (Лукерья Ильинична Синицина). Её появление в семье Витовых связано с занятной историей. Тётя Луша работала горничной в семье Надежды Андреевны Обуховой – известной певицы. На стене в гостиной висел её портрет, нарисованный углём И. Репиным. Убираясь, тётя Луша протёрла этот портрет сырой тряпкой. Но её не выгнали на улицу, Надежда Андреевна, знакомая с моей бабушкой, рекомендовала её как старательную и честную горничную, и тётя Луша стала горничной бабушки.
Тётя Луша стирала, шила, убиралась, готовила. Иногда между ней и бабушкой возникали размолвки, и тогда бабушка не пускала тётю Лушу к себе в комнату. Тётя Луша переживала и стремилась как можно скорее добиться прощения. Бабушка рассказывала, что тётю Лушу соседи по квартире уговорили не работать домработницей, а стать рабочей на Электроламповом заводе, что она и сделала. Затем вытребовала себе отдельную жилплощадь – маленькую комнату рядом с кухней.
Бабушка прекрасно говорила на французском и немецком языках. Когда я пошёл учиться в школу, она стала помогать мне делать уроки. Но это продолжалось недолго, остался только французский язык, которым она меня заставляла заниматься. В своей дальнейшей жизни я очень сожалел, что учился языку из-под палки.
Бабушка часто болела. Хорошо помню – она лежит в кровати, я сижу, занимаюсь, готовлюсь к приёмным экзаменам в институт. Учу физику, направление магнитного поля вокруг провода (правило буравчика), делаю движения рукой, как будто ввинчиваю штопор. Смотрю, бабушка подозрительно и с испугом наблюдает за мной. Как объяснила потом, решила, что я немного «свихнулся» от занятий.
Своей эрудицией и умом бабушка привлекала к себе людей. К ней часто приходила Нина Григорьевна Кучаева – научная сотрудница какого-то академического института, которую почему-то звали «Подснежник». Во время войны у неё была возможность получать дополнительные продукты, и она меняла их на бабушкины вещи. После войны она стала приходить к бабушке для разговоров «по душам». Говорила в основном Нина Григорьевна, рассказывая о своей жизни и «романах», ей, видно, было необходимо излить свою душу. Её дочь погибла на Кавказе, сын, способный журналист, крепко пил. С мужем она развелась и однажды решила прийти со своим возлюбленным. Бабушка была исключительно холодна и в следующий раз сделала строгий выговор «Подснежнику»: «Приходить ко мне со своим возлюбленным неприлично». Это было не ханжество, а строгие моральные правила, которых она придерживалась всю жизнь.
К моему отцу бабушка относилась очень плохо. Я думаю, что отец по своим жизненным принципам настолько отличался от жизненных принципов бабушки, что он ей был чужд и неприятен. Бабушка никогда не принимала отца в своём доме, никогда не бывала у него и старалась ограничить мои встречи с ним. Хорошо помню, как однажды, на мой день рождения, отец попробовал прийти и поздравить меня. Бабушка отправила мою маму к входной двери в квартиру сказать ему, чтобы он никогда не смел приходить к нам. Отец был вынужден ретироваться. Самое удивительное, что, несмотря на такое отношение к нему, он до последних своих дней отзывался о бабушке крайне почтительно, с большим уважением. На праздники, если он был в Тбилиси, присылал ей поздравительные телеграммы, адресуя их Надежде Александровне Витовой. Бабушка говорила, что он это делал специально, чтобы подчеркнуть своё родство с известной в Грузии по дореволюционной жизни фамилией.
Бабушка вела финансовые дела в семье и определяла праздники, которые мы отмечали. Новый год мы встречали всегда в узком семейном кругу – бабушка, мама и я. На столе – бутылка сидра, он продавался в таких же бутылках, как шампанское, но был дёшев. Значительную часть бутылки выпивал я и часто после этого чувствовал себя неважно. Бабушка никогда мне не препятствовала, считала, что запреты могут привести к пьянству.
Главным праздником для бабушки было Рождество. Я всегда покупал ей две небольшие ёлки, одну она хранила за окном до сочельника (мне это было совершенно не понятно, зачем – все наряжали ёлки к Новому году), а в сочельник я помогал ей наряжать ёлку. Игрушки были ещё дореволюционные. В детские годы в Рождество я всегда находил около кровати чулок с подарками – яблоками, конфетами, орехами. Вторую ёлку бабушка в рождественские дни отвозила на кладбище на могилу родителей и мужа. Ёлку на Рождество бабушка ставила всю жизнь, даже тогда, когда ёлки были запрещены: наряжалась маленькая ёлочка, которая быстро пряталась в шкаф, если кто-то стучал в дверь.
Бабушка отмечала день своего венчания 8 января (21 января нового стиля) даже тогда, когда дедушка умер. На свадебном меню ресторана «Метрополь» она каждый раз записывала скромные ужины юбилейных лет венчания. Последняя запись – тридцатилетие совместной жизни 21 января 1942 года.
Праздновали в нашей семье и Пасху. Правда, пасхальный пост не соблюдался, наш стол всегда был скромным. К Пасхе пеклись куличи, красились яйца. Кулич пекла тётя Луша или мама. Яйца красили акварельными красками и переводили на них сводные картинки. Я с бабушкой дожидался полуночи, и мы «разговлялись». На следующий день к нам приходила из церкви после пасхальной службы в Елоховском соборе тётя Лиза Дербенёва. В церковь бабушка после появления «обновленцев» не ходила. Советские праздники в семье не отмечались.
Тридцатого сентября отмечали именины бабушки. Возвращаясь в августе в Москву из деревни (с дачи), мы привозили живую курицу, которая некоторое время жила в коридоре в корзине. Ко дню именин наш сосед Сергей Гавриш брал саблю и отрубал курице голову. Из курицы готовили праздничный ужин. Приходила её любимая племянница, Ирина Стафрина (дочь брата Анатолия Александровича Витова), с мужем, Валентином, к которому бабушка относилась очень хорошо. Валентин, рослый мужественный и деликатный человек, был на фронте ранен в колено, нога не гнулась, и он прихрамывал. О войне никогда не рассказывал. Правда, однажды речь зашла о героизме признанном и героизме, ничем не отмеченном. И Валентин рассказал о мальчике, который под огнём перевозил их в лодке на другой берег реки. Мальчик погиб, никто так и не узнал его имени.
Приходила к бабушке поздравить и её первая горничная тётя Женя (фамилии уже не помню). Она вышла замуж, а замужних горничных не держали. Приходила она довольно часто помочь по хозяйству, её муж погиб в Первую мировую войну, детей у неё не было, осталась одна. Приходила она и после смерти бабушки просто посидеть у нас и что-то сделать.
Бабушка крайне негативно относилась к настоящему времени, но у неё не было озлобленности, которая часто встречается по значительно более мелким обидам на государство и его представителей. Бабушка никогда не настраивала меня против существующего строя, понимая, что мне придётся в нём жить, но в то же время она была категорически против моего вступления в пионеры и в комсомол, которые у неё ассоциировались с большевиками. В этих случаях мне доставались изрядная порция брани и небольшое рукоприкладство, которое я стоически переносил. Со временем это проходило, и бабушка успокаивалась.
Бабушка отличалась широтой и свободой взглядов. Она очень доброжелательно относилась к новым руководителям СССР, пришедшим на смену невыносимых ею Ленина и Сталина. Ей импонировал Н. С. Хрущёв, выступавший с разоблачением сталинизма. В конце 50-х приподнялся «железный занавес», появились французские шансонье (Ив Монтан), французские фильмы. Этого бабушка ждала многие годы. Она ходила на все французские фильмы и обязательно хотела, чтобы я был с ней. Помню наш поход на «Красное и чёрное» с Жераром Филипом, который очень ей нравился. На этот фильм пускали только «после 16», а мне было 14. «Ты обязательно должен пойти, я скажу, что тебе 16». И она провела меня в «Колизей» (ныне театр «Современник»), а после просмотра обсуждала со мной фильм. Вместе мы смотрели «Фанфан Тюльпан», «Пармская обитель» (там были кадры дворца, где она бывала).
Умерла бабушка в конце марта 1960 года в возрасте 68 лет. Я хотел бы забыть этот день, но он прочно врезался в мою память. Бабушка болела, и у неё начался отёк лёгких. Она стала задыхаться, не могла лежать и всё время сидела на кровати, прислонясь к высоким подушкам. Приехала скорая помощь, врач сказал маме, что положение безнадёжно. Бабушке становилось всё хуже и хуже. Она просила, чтобы я держал её, так как она не могла лечь. Смерти она не боялась. Я держал её, обняв, до последнего вздоха.
Это была первая смерть, с которой я близко столкнулся. Я плакал, скрывая свои слёзы от всех. Потом занялся вместе с мамой похоронами, что было в то время непростым делом. Гроб с телом бабушки стоял в комнате на столе, тётя Луша читала псалтырь все дни и ночи до похорон. Приходили люди проститься. Отпевали бабушку в Духовской церкви Даниловского кладбища, кремировали согласно её завещанию и похоронили прах на Даниловском кладбище в могилу её родителей и мужа.
Колпачный переулок, 4
Рассказывая о бабушке, не могу не рассказать о нашем доме и квартире по адресу: Колпачный переулок, дом 4. Здесь бабушка и дедушка жили с 1920 года. Трёхэтажный дом расположен во дворе, за зданием бывшей школы. Его построил в начале XX века известный московский ювелир Орест Фёдорович Курлюков[33]. На трёх этажах дома были расположены три квартиры. До 1917 года их занимали: на первом этаже – сам Орест Фёдорович, на втором этаже – его сын Владимир Орестович с семьёй. На третьем этаже жил сын барона Андрея Львовича Кнопа[34], особняк которого расположен на противоположной стороне переулка (Колпачный, д. 5). После женитьбы сына на гувернантке он был «отселён» из особняка в квартиру дома Курлюкова. В 1917 году Кнопы покинули Россию, собирались вернуться, когда всё успокоится. Просторные квартиры в доме начали постепенно «уплотняться» и превращаться в коммунальные.
Первоначально каждая из квартир представляла собой длинную анфиладу из семи комнат, кухни и ванной. В таком виде они были непригодны для превращения в коммунальные. Революционное решение было простым – вдоль всей квартиры воздвигались перегородки, и образовывался коридор длиной около 30 метров от кухни до ванной и туалета. В перегородках из подручного материала создавались двери в каждую комнату, все они были разные: от маленьких, в которые надо было протискиваться, до широких, как въездные ворота. Все большие двустворчатые анфиладные двери в квартире сохранялись, поэтому в каждой комнате были три двери, две анфиладные – в соседние комнаты и одна – в коридор. После такой «революционной» перестройки квартиры московской буржуазии приближались к планировке барака. Высота потолков в квартирах была около 4 метров, потолки были лепные, симметрия лепных фигур была нарушена перегородками. В каждой комнате сохранились огромные окна с толстыми зеркальными стёклами и мраморными подоконниками.
Над третьим этажом располагался большой чердак, войти в него можно было через чёрную лестницу, шедшую из второго маленького подъезда. На чёрную лестницу выходили двери из кухонь. Чердак был высокий, там обычно сушили бельё и хранили ненужные вещи. На первом этаже у чёрной лестницы находилась небольшая комната для дворника. Ниже в подвале была котельная. До конца пятидесятых годов дом отапливался от этой котельной.
Орест Фёдорович Курлюков умер в 1916 г., а его сын старался «уплотнить» квартиры людьми не с улицы, а известными ему по дореволюционной жизни. И, когда у моих бабушки и дедушки отобрали их квартиру в доме страхового общества «Россия», Владимир Орестович предложил им перебраться в его дом, в квартиру Кнопа, поскольку стало ясно, что ничего не «успокоится» и хозяин квартиры уже не вернётся. В приглашении перебраться была и практическая цель: дедушка, служивший в Красной армии, имел право на владение оружием, а при новой власти развились воровство и грабежи домов. Из подъезда и с лестниц исчезли ковры, зеркала, светильники, крали верхнюю одежду, которую было принято оставлять на вешалках в большой, общей для всех квартир прихожей. Дмитрий Николаевич, мой дед, быстро организовал в доме дежурство, и кражи прекратились.
После жизни в собственном доме, в собственной квартире вот в такую коммунальную квартиру на третьем этаже дома переехали моя бабушка, дедушка и мама, которой было к этому времени 7 лет. Здесь им предстояло прожить более 40 лет. Я никогда не видел уныния на лице бабушки и не слышал от неё ни одной жалобы и ни одного слова осуждения советской власти. В этой квартире жил и я со своей семьёй.
А самым первым жильцом квартиры был товарищ Кнопа – Зейц – с женой Серафимой. Уезжая из России, Кноп просил его проследить за порядком в квартире. Зейц работал в секретариате Троцкого, и его ждала судьба всех троцкистов.

