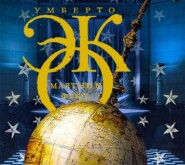По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Имя розы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тот послеполуденный час оно представало пред моими очами как некая дивная кузня всезнания. Впоследствии я посетил в Сан-Галло скрипторий похожего вида, и так же обособленный от библиотеки (в других монастырях пишущие трудились в комнатах, где сохранялись и книги), но не столь необыкновенно удобно устроенный, как этот. Антиквары, библиотекари, рубрикаторы и изыскатели сидели каждый у собственного стола, по одному столу под каждым из окон. И поелику тех окон было ровно сорок (число истинного совершенства, рождаемое удесятерением квадрата, как если бы десять заповедей учетверялись четырьмя основными добродетелями), четыре десятка монахов могли бы под ними союзно трудиться, хотя в миг нашего появления их и сидело не более тридцати. Северин разъяснил нам, что монахи, посылаемые в скрипторий, освобождаются от богослужения третьего, шестого и девятого часа, дабы не вынуждаться прерывать свою работу в светлое время суток, и покидают они скрипторий только на закате, перед вечерей.
Самые светлые места были отданы антикварам, лучшим миниатюристам, рубрикаторам и переписчикам. На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильцы для графления строк. У писцов под рукою, на гребнях покатых столешниц, были подставки, державшие переписываемые тома в открытом виде с помощью особых пластин, указывавших нужную строку. Были на столах чернила и золотые, и иных цветов. А некоторые монахи не писали, а только читали и делали заметки в тетрадях или на дощечках.
Но не было возможности вникнуть в их работу, потому что навстречу спешил библиотекарь – как мы уже знали, Малахия Гильдесгеймский. Он явно хотел выказать радушие, но я поневоле вздрогнул от его зловещего вида. Ростом он был высок, и при редкостной худобе конечности имел тяжелые и неуклюжие. Когда он шагал, окутанный черным орденским платьем, в его фигуре было что-то жуткое. Капюшон, который он, войдя в помещение, не опустил, оттенял бледность кожи и мрачность огромных тоскливых глаз. На лице лежал отпечаток страстей, по-видимому усмиренных усилием воли, но вылепивших все черты, ныне бездвижные и безжизненные. Облик его дышал скорбью и суровостью, а глаза глядели так пристально, что, мнилось, проницали душу собеседника, читая тайные помыслы, и вряд ли кто бы мог выдержать испытание и не потупиться, спасаясь от вторичного взгляда в эти глаза.
Библиотекарь представил нам работавших. О каждом Малахия рассказывал, над чем тот трудится, и я с восторгом находил во всех глубочайшую преданность науке и познанию слова Божия. Так мы познакомились с Венанцием Сальвемекским, переводчиком с греческого и арабского, приверженцем того самого Аристотеля, который несомненно был и будет великомудрейшим во человецех. С Бенцием из Упсалы, юным скандинавом, знатоком риторики. С Беренгаром Арундельским, помощником библиотекаря. С Имаросом Александрийским – переписчиком книг, получаемых библиотекой на несколько месяцев из других мест. А также с миниатюристами из разных стран: с Патрицием Клонмакнойзским, Рабаном Толедским, Магном Ионским, Вальдом Герефордским.
Я мог бы продолжить этот перечень, о, всего на свете привлекательнее перечень в своей неизъяснимой наглядности! Но нужно передать беседу, так как в ходе ее частично объяснилось смутное беспокойство, ощущаемое всеми, и наметилось нечто невысказанное, но подразумевавшееся в речах.
Сперва учитель похвалил Малахии красоту и удобство скриптория и спросил о порядке пользования книгами, ибо – осторожно пояснил он – слышав множество похвал этой библиотеке, сам мечтал осмотреть ее сокровища. На это Малахия повторил то же, что мы слышали от настоятеля: что монахи просят у библиотекаря необходимые книги, а тот приносит их сверху из хранилища – если находит запрос обоснованным и благочестивым. Вильгельм спросил, как же узнать названия книг, хранящихся наверху, и Малахия указал на толстый прикованный золотой цепью к его столу кодекс, исписанный дробными столбцами.
Вильгельм сунул руки в рясу на груди, где она складывалась в некое подобие сумки, и вынул вещь, которую я в дороге уже видел и в руках у него, и на носу. Это была рогатка, приспособленная сидеть на носу у человека (в особенности на таком крупном, орлином носу, как имел учитель) – в точности как сидит всадник на коне и птица на жердочке. На концах рогатки, так чтобы находиться прямо перед глазами, держались два овальных металлических окошка, куда были вставлены стекла толщиной каждое с донце стакана. Читая, Вильгельм вздевал это на нос и заверял, что видит значительно лучше, нежели позволяют природное зрение и преклонный возраст, особенно когда дневное светило склоняется к закату. Эта снасть помогала видеть не вдаль (вдаль он и без нее видел превосходно), а вблизь, благодаря чему он мог читать самый мелкий почерк, такой, что даже я затруднялся разбирать. Он объяснил, что каждый из людей, пройдя до половины жизнь земную, даже тот, кто был знаменит отменною зоркостию ока, ощущает, что зрение его отупело и зрачки разучились прилаживаться к рассматриваемому предмету, отчего многие ученейшие мужи, проводив пятидесятую весну, считай что умерли для чтения и письма. Суровая казнь мудрецам, которые, не будь того, долгие бы еще годы являли миру цвет своей учености. И потому надо возблагодарить Господа за то, что открыт и сделан чудеснейший снаряд. Тем самым, добавлял Вильгельм, оправдывается убеждение столь почитаемого им Рогира Бэкона, что одна из задач науки – продление человечьего века.
Монахи следили за Вильгельмом с любопытством, хотя расспрашивать не решались. Однако было ясно, что даже тут, среди людей, посвятивших жизнь чтению и письму, о замечательном изобретении пока не слыхивали. И я с гордостью подумал, до чего приятно сопровождать человека, способного поразить столь многознающих, прославленных во всем мире мужей.
Уставив против глаз свой снаряд, Вильгельм склонился к кодексу. Заглянул в списки и я, и взору открылись названия как совершенно неведомых книг, так и известнейших – всех имевшихся в библиотеке.
«„О звезде Соломоновой“, „Искусство изъяснения на еврейском языке и постижения оного“, „О свойствах металлов“ Рогира Герефордского, „Алгебра“ аль-Хорезми[55 - аль-Хорезми Мухаммед бен Муса (787 – ок. 850) – автор основополагающих трактатов по арифметике и алгебре, переведенных на латынь в XII в.], переложенная на латынь Робертом Англом, „Пунические войны“ Сильвия Италика, „Деяния франков“, „Хвала святому кресту“ Рабана Мавра, „Флавия Клавдия Иордана о возрасте мира и человечества, с расположением по литерам и книгам, от А до Z“, – читал учитель. – Великолепные труды. Но каков порядок их размещения? – И он наизусть повторил отрывок из неизвестного мне, но явно знакомого Малахии руководства: – „Смотрителю ж имать память накопленных писаний из их толка и из их творца, отставляя всякий толк особо и прилагая ко всякому творению памятное клеймо“. Как иначе находить их на полках?»
Малахия ткнул пальцем в цифирь, проставленную сбоку от каждого названиями: «III, IV уровень, V в первой греков; II, V уровень, VII в третьей англов», и так далее. Я догадался, что первая цифра обозначает положение книги на полке, полка определяется по второй цифре, по третьей – шкап, а словами, по-видимому, обозначены комнаты или коридоры книгохранилища. И тут же решил расспросить поподробнее об этих последних таинственных обозначениях. Малахия глянул на меня сурово: «Вы либо не слыхали, либо не запомнили, что вход в библиотеку дозволен только библиотекарю. А посему достаточно и даже необходимо, чтоб библиотекарь один разбирался в этой цифири».
«Но все-таки каков порядок расположения книг хотя бы тут в списке? – спросил Вильгельм. – По-моему, не предметный. О расположении по заглавным буквам имен авторов, в порядке алфавита, речи не шло, поскольку это нововведение, как мне известно, укоренилось в библиотеках лишь совсем недавно, а в те годы почти не применялось».
«История библиотеки уходит в глубь веков, – отвечал Малахия. – И с давних времен принято записывать книги в порядке поступления, как путем закупок, так и дарственным путем».
«Очень трудно искать», – заметил Вильгельм.
«Ищет библиотекарь, а он помнит каждую книгу и знает, когда она поступила. Прочие монахи могут положиться на его память». Он говорил вроде не о себе, а о другом человеке. Но я понял, что речь идет именно о должности, кою ныне исправляет он, быть может и недостойный, а до него исправляли десятки других, передававших друг другу знания.
«Понятно, – сказал на это Вильгельм. – Значит, если я захочу взять что-нибудь, к примеру, о Соломоновом пятиугольнике, вы указываете мне название – к примеру, то, которое мы только что видели в списке, – а затем, сверившись с цифирью, приносите книгу из хранилища».
«Да, в случае, если вам действительно следует читать о звезде Соломоновой, – отвечал Малахия. – Но чтобы выдать книгу такого рода, я должен иметь разрешение Аббата».
«Мне стало известно, что один из лучших молодых миниатюристов, – сказал тогда Вильгельм, – недавно погиб. Аббат очень хвалил его. Можно посмотреть его работы?»
«Адельм Отрантский, – нехотя ответил Малахия, в упор разглядывая Вильгельма, – допускался, по незрелости лет, только к маргинальным иллюстрациям. Обладая живым воображением, он ловко составлял из обычных образов странные и невиданные, как те, кто сращивает человечье тулово с головою коня. Книги его на месте. К столу никто не прикасался».
Мы подошли к рабочему месту Адельма, где лежали листы Псалтири, покрытые его рисунками. Тончайшие листы ягнячьей кожи – дивного, царственного пергамента. Последний, неоконченный, до сих пор был прибит к столешнице. Вылощенный пемзой, умягченный мелом, растянутый на станке, он был наколот по краю мельчайшими дырочками-вешками, направляющими руку мастера.
На половине листа, заполненной текстом, художник разметил по полям контуры рисунков. Взглянув на другие, уже готовые листы, мы с Вильгельмом ахнули. На полях Псалтири был показан не тот мир, к которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку. Будто в преддверии речи, которая по определению речь самой Истины, – велся иной рассказ, с той Истиною крепко увязанный намеками in aenigmate[56 - в виде загадки (лат.)], лукавый рассказ о мире вверх тормашками, где псы бегут от зайцев, а лани гонят львов. Головки на птичьих ножках, звери с человечьими руками, вывернутыми на спину, головы, ощетинившиеся ногами, зебровидные драконы, существа со змеиными шеями, заплетенными в тысячу невозможных узлов, обезьяны с рогами оленя, перепончатокрылые сирены, безрукие люди, у которых на спине, как горбы, растут другие люди, и тела с зубастыми ртами пониже пупа, и люди с конскими головами, и кони с человечьими ногами, и рыбы с птичьими крылами, и птицы с рыбьими хвостами, и однотелые двуглавые чудища, и двутелые одноглавые; коровы с петушьими хвостами, с мотылевыми крылами, жены с лицами чешуйчатыми, словно рыбьи бока; двухголовые химеры, породненные с ящеричьемордыми стрекозами, кентавры, драконы, слоны, мантихоры, ластоноги, растянувшиеся на древесных ветвях, грифоны, из хвостов которых выходили лучники в боевом вооружении, адские исчадья с нескончаемыми шеями, вереницы человекоподобного скота и звероподобного люда, семейки карл – и тут же помещались, с ними на одной странице, картины сельского хозяйства, где с дивной живостью изображался, так что можно было поверить в те фигурки как в живые, весь труд крестьянина: и полевая страда, и пахота, и сбор, и косьба, и сучение шерсти, и сев; а среди всего этого хозяйства лисы и белодушки, вооружась самострелами, брали приступом многобашенные обезьяньи города. Где-то буквица инициала сверху образовывала L, снизу оканчивалась драконьим задом; где-то заглавная V, открывавшая слово «Verba», пускала около себя, как виноград пускает лозы, тысячекольцых змей, от которых в свою очередь почковались новые ползучие гады, как от веток почкуются новые грозди и побеги.
Сбоку от Псалтири лежал, по-видимому, завершенный совсем недавно, драгоценнейший часослов невероятно малого размера, такой, что я поместил бы его на ладони руки. Мельчайшие записи и маргинальные рисунки с первого взгляда показывались как будто неразборчивыми, и просились ближе к оку, дабы око, приспособившись, насладилось всей необъятностью их красоты. И ты мог только гадать, каким же сверхчеловеческим орудием художник сумел добиться подобной отчетливости при подобной мелкости изображения. Все поля были заполнены маломерными фигурками, рождавшимися, как будто чрез обычные природные пути, из изящнейшего охвостья великолепно очерченных литер: морскими сиренами, резвоскачущими оленями, химерами, безрукими человечьими обрубками, которые высовывались повсюду, как червяки, из тесной плоти письма. В каком-то месте, прилепившись прямо к троекратному «Свят, Свят, Свят», повторявшемуся подряд на трех строчках, размещались три звериных туловища о человечьих головах, из которых двое тянулись друг к другу, одно чудище наверх, второе вниз, совокупляясь в поцелуе, который я без колебаний определил бы как непристойный, когда бы не был совершенно уверен, что пускай не очевидное, а укромное, глубинное, но непременно имеется некое духовное содержание сего зрелища, без сомнения оправдывающее и вид его, и расположение на той странице.
Я над этими листами погибал от восхищения и смеха, потому что рисунки смешили поневоле, хотя и находились при священнейшем тексте. И брат Вильгельм, на них поглядевши, ухмыльнулся и сказал: «Бейбвинами их зовут у меня на островах».
«А галлы – бабуэнами, – отозвался Малахия. – Адельм действительно учился рисунку у вас в стране, потом совершенствовался во Франции. Бабуины, сиречь африканские обезьяны. Обитатели перевернутого мира, где замки стоят на кончиках башен, а земля находится на небе».
У меня в памяти всплыл стишок на языке родных мест, и я не удержавшись прочел:
Alter Wunder si geswigen,
das Herde Himel h?t ?berstigen,
das suit is v?r ein Wunder wigen[57 - Вот невиданное дело:На небо земля взлетела,Выше неба залетела!(старонем.)].
А Малахия подхватил с той же строки:
Erd ob un Himel unter
das sult ir h?n besunder
V?r aller Wunder ein Wunder[58 - Облако-то под ногами,А земля над облаками –Чудеса за чудесами!(старонем.)].
«Молодец, – похвалил он меня, – верно, Адсон, это картины краев, куда едут на синей гуске, где ястребы удят в ручьях, медведи по небу гоняются за соколами, раки летают на голубицах, три великана сидят в мышеловке, а петух их щиплет да поклевывает».
И бледная улыбка показалась на его губах. Другие монахи, робко слушавшие разговор, захохотали во всю глотку, как будто дождавшись от библиотекаря разрешения. Тот разом потемнел, а они все веселились, любуясь работой злосчастного Адсельма и указывая друг другу на самые потешные фигурки. Смех еще звучал, когда у нас за спиною грозно и гулко прогремело:
«Пустословие и смехотворство неприличны вам!»
Мы оборотились. Говоривший был старец, согбенный годами, белый как снег, весь белый – не только волосы, а и кожа, и зрачки. Я догадался, что он слеп. Но голос его сохранял властность, а члены – крепость, хотя спина и сгорбилась от возраста. Он держался, будто мог нас видеть, и впоследствии я не раз отмечал, что двигается он и говорит, как будто не утратил дара зрения. А по речи казалось, что он обладает и даром прорицания.
«Сей муж, славный годами и ученостию, – сказал Малахия Вильгельму. – Хорхе из Бургоса. Он старше всех в монастыре, кроме одного Алинарда Гроттаферратского, и он тот самый, к кому большинство монахов несет бремена прегрешений на тайную исповедь. – И продолжил, обратаясь к старцу: – Перед вами брат Вильгельм Баксервильский, гость обители».
«Вы, верю, не прогневались на мой упрек, – отрывисто заговорил старец. – Я услышал, как смеются над тем, что достойно осмеяния, и призвал братьев помнить правило нашего устава. Ибо ради обета молчания монах обязан удерживаться даже от добрых речей, и тем паче от дурных. Об этом же и псалмопевец глаголет. Подобно дурным речам, существуют дурные образы – те, которые клевещут на творца, представляя созданный им мир в искаженном свете, противно тому, каков он должен быть, всегда был и всегда пребудет, во веки веков, до скончания времен. Но не к вам я обращаюсь, пришедшему из иного ордена, где, как я слышал, снисходительно относятся к неуместным игрищам». Это он намекал на распространенные у бенедиктинцев слухи о странностях Св. Франциска Ассизского, а может быть, и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов – самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости.
«Рисунки на полях часто смешат, но это в целях назидания, – отвечал он. – Как в проповедь, чтобы затронуть воображение бессмысленный толпы, надо вводить exempla[59 - примеры (лат.)] и желательно потешные, так и в беседе образов не следует пренебрегать подобными дурачествами. На каждую добродетель и на каждый грех есть пример в бестиариях, где под видом зверей показан человеческий мир».
«О да, – перебил его старец без улыбки, – не следует пренебрегать подобными дурачествами! Чтобы перл творения, повернув с ног на голову, выставить посмешищем! Пусть провождает слово Божие осел, играющий на лире, сыч, пашущий щитом, волы, друг друга запрягшие, реки, потекшие вспять, море, огнем горящее, волк, приявший схиму! Травите зайцев коровами, учитесь грамматике у филина, и пусть псы живут на блохах, слепцы подглядывают за немыми, а немые кричат „Дай поесть!“. Пусть стрекоза родит телка, жареный петух по небу летит, на крышах пряники растут, попугаи риторике учат, куры петухов топчут. Впрягайте телегу поперед лошади, кладите собаку на перину и гуляйте все вниз головою! К чему приведут эти шуточки? К искажению образа действительности. Все созданное Творцом поставят с ног на голову, под видом преподавания божественной теории!»
«Но Ареопагит[60 - Ареопагит Псевдо-Дионисий – греческий философ VI в.] учил, – смиренно возразил Вильгельм, – что Господа должно являть лишь через самые неприглядные вещи. И Гугон Викторинец доказывал, что, чем менее правдоподобно подобие, тем четче вырисовывается истина. Встречая страшные и странные личины, воображение оживает, и не расслабляется в плотской благостности, а понуждается искать истины, сокрытые под мерзостью вида…»
«Не новый довод! И со стыдом признаю, что он – первейший из доводов нашего ордена в период борьбы клюнийцев с цистерцианцами. Но прав был Св. Бернард: постепенно всякий, кто, собираясь провождать божественность per speculum et in aenidmate, занимается дикими и уродливыми явлениями, – войдет во вкус этого убожества и до того им проникнется, что уже ничего иного не видит. Да взгляните вы, еще не утратившие зрения, на капители вашего собственного храма. – И он ткнул пальцем в сторону окна, выходящего на церковь. – А ведь это рассчитано на братьев, погружающихся в медитацию! Что выражает это непотребное кривлянье, эта сумбурная гармония и гармоничный сумбур? Откуда эти обезьяны? Эти львы, кентавры, недочеловеки со ртом на брюхе, с одной ногою, с парусами вместо ушей? Зачем тут пятнистые тигры, воюющие бойцы, охотники, трубящие в рог, и многотелые существа об одной голове, и многоголовые об одном тулове? Четвероногие змеехвостые, и рыбы с головой четвероногого, и чудище, которое передом лошадь, а задом козел, и конь с рогами, и далее в подобном роде, так что теперь монаху интереснее глядеть на мрамор, чем в манускрипт, и размышлять он будет о человечьей искусности, а не о всемогуществе Божьем. Стыд, стыд вожделеющим очам и улыбке ваших уст!»
Чудный старец умолк, тяжело дыша. А я не мог надивиться острой памяти, которая ему, столько уж лет незрячему, так живо сохранила обличаемые образы. Я даже подумал, что, верно, эти образы сильно прельщали его самого, когда он еще видел, – если и через столько лет он с такою страстью описывает их. С другой стороны, я встречал и прежде самые соблазнительные картины греха в писаниях именно тех людей, которые, славны неподкупнейшей добродетелью, клеймили соблазн и последствия его. Доказательство, что сих мужей снедает страсть к истине до того пламенная, чтобы не останавливаться перед любыми описаниями, изобличающими Зло во всех его прелестях, коими прикрывается. До того они желают охранить людей и приготовить их к козням нечистого. Вот и у меня слова Хорхе вызвали горячее желание получше рассмотреть тех тигров с обезьянами, которых я в первой раз не заметил. Но Хорхе прервал ход моих мыслей, заговорив снова, хотя и более спокойно:
«Господь, наставляя на праведный путь, не нуждается в подобных нелепицах. Его параболы не внушают ни смеха, ни страха. В то время как Адельм, коего вы тут оплакиваете, настолько упивался своими уродливыми созданиями, что утратил всякое представление о конечных понятиях, которые должен был вещно отображать. И дошел до самого дна, повторяю, – голос Хорхе зазвучал торжественно и жутко, – до самого дна нравственного падения. Но Господь умеет карать!»
Повисла тяжкая тишина. Венанций Сальвемекский осмелился вмешаться.
«Достопочтенный Хорхе, – сказал он. – Добродетель внушила вам пристрастные суждения. Ведь за два дня до гибели Адельма вы сами приняли участие в ученейшем диспуте здесь, в скриптории. Адельм обратился к вам в тревоге: нет ли опасности, что его искусство диковинных и фантастических изображений будет истолковано превратно, хотя замышляется во славу Господню, на благо познания божественных тайн? Брат Вильгельм тут цитировал Ареопагита о познании через уродство. А Адельм в тот день вспоминал слова другого знаменитого мужа – доктора Аквинского – о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. Во-первых, потому, что легче уберечься от ошибки. Ведь в этом случае ясно, что низкие свойства никак не могут принадлежать божественности. А в благородном теле непонятно, где проходит граница. Во-вторых, это ближе к тому представлению о Всевышнем, кое бытует здесь на земле, куда Он является чрез то, что не Он, несравненно чаще, чем чрез то, что есть Он. Подобие Божие в самых далеких от Него вещах с наибольшей точностью нам Его указует, и так мы узнаем, что Господь превыше всего, что мы способны сказать и помыслить. А в-третьих, этим способом божественность лучше всего укрыта от недостойных. В общем, в этот день разговор шел о способах являть истину чрез необыкновенные, остроумные и загадочные образы. Я напомнил ему, что в труде великого Аристотеля мы имеем довольно точные указания на сей счет…»
«Не помню, – сухо прервал его Хорхе. – Я очень стар. Не помню. Возможно, я был слишком резок. Теперь поздно, пора идти».
«Странно, как это вы не помните, – не отступался Венанций. – Это был ученейший и увлекательнейший спор, и в нем участвовали, кроме нас, Бенций и Беренгар. Речь шла о метафорах, словесных играх и загадках, которые, можно бы подумать, изобретаются пиитами только ради забавы – но которые способствуют судить о предметах новым, удивительным образом. Тогда я сказал, что это-то и требуется от мудрого суждения… И Малахия слышал…»
«Если преподобный Хорхе не помнит, уважь его года, не терзай утомленный ум… впрочем, острейший и поныне…» – вмешался кто-то из толпы, окружавшей спорящих. Голос звучал очень взволнованно, по крайней мере вначале, но, видимо, говоривший заметил, что, требуя уважать старика, публично указывает на его немощь, – и умерил пыл, а закончил и вовсе покаянным шепотом. Это был Беренгар Арундельский, помощник библиотекаря. Молодой, бледнокожий; глядя на него, я припомнил, что Убертин сказал об Адсельме. У этого тоже были глаза блудливой женщины. Смущенный всеобщими взглядами, он стиснул пальцы рук, как бы пытаясь подавить сильнейшее нервное возбуждение.
Венанций повел себя довольно странно. Молча и пристально он глядел на Беренгара, пока тот не потупился. «Так вот, брат, – сказал он тогда, – коли память дар Божий, от Бога и умение забывать, которое придется уважить… в престарелом собрате, с которым я спорил. Но от твоей-то памяти я ждал большей живости. Ибо речь идет о том, что произошло здесь в присутствии твоего дражайшего приятеля…»
Не припомню, сделал ли Венанций особое ударение на слове «дражайший». Но в любом случае присутствующими овладело замешательство. Все старались не смотреть друг на друга, а особенно на Беренгара, покрасневшего до ушей. В тот же миг прозвучал властный голос Малахии. «Идемте, брат Вильгельм, – сказал он. – Я покажу вам другие интересные книги».
Монахи расходились. Я видел, как Беренгар метнул на Венанция взгляд, полный немого упрека, а тот ответил яростным вызывающим взглядом. Видя, что старый Хорхе готовится уйти, я нагнулся и в порыве почтительнейшего восхищения поцеловал его руку. Старец наложил мне длань на голову и спросил, кто я. Услышав мое имя, он просветлел.