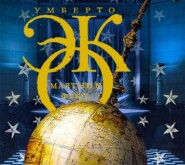По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэтому если бы, например, сказали, что творчество Поллока представляет собой негативное явление, поскольку не служит делу революции, данное утверждение было бы двусмысленным в своей основе. В случае Поллока живопись полемизирует, что-то признает и что-то отрицает на том уровне, который не имеет прямого отношения к практическому действию. Описательный анализ как раз и направлен на то, чтобы определить существование этих уровней дискурса, а также ситуацию, в которой искусство находится при нынешней культурной конъюнктуре. В дальнейшем, при более обстоятельном историческом анализе, следует выяснить, по какой причине различные виды человеческой деятельности заявляют о себе в различных аспектах, нередко чуждых друг другу, в результате чего искусство, например, вынуждено вести свой дискурс о формах примерно так же, как философия вводит нас в сферу понятий, а практическое действие – в сферу социальных отношений, причем без особой надежды на то, что здесь возможен легкий, доступный каждому переход из одной сферы в другую; напротив, довольно часто искусство развивает свой разрушающе-созидающий дискурс, опережая время, и в итоге наглядно свидетельствует о процессе, который в других областях даже не начинался. Именно об этом мы и постарались рассказать на последних страницах нашего исследования о Джойсе.
Но что в данном случае делает искусство, ведя свой абстрактный дискурс и лишившись прежних точек отсчета? Искусство говорит нам о каком-то возможном мире, который еще впереди или отражает хитрое, чисто формальное приспособление старого мира к новым веяниям – того мира, который все равно проглядывает под новыми одеждами.
Что мы делаем, отрицая тональность в музыке: отрицаем вместе с нею те закосневшие иерархические отношения, которые господствовали в консервативном автократическом обществе, или только переносим на формальный уровень те конфликты, которым, напротив, следовало бы развиваться на уровне конкретных человеческих отношений? И что означает этот перенос: реальный ценностный стимул и воззвание к творческому воображению или просто создание некоего культурного алиби и отвод энергии в другую сторону?
Кто был прав: советские авангардисты, которые представляли преобразование художественных форм как некоторую параллель желанному для них политическому преобразованию, или те, кто упрекал их в том, что они таковы, какими, в конце концов, и стали, то есть художниками, почившими на лаврах в условиях другого общества?
Быть может, этот вопрос надо поставить более жестко, ибо временами он именно так и звучит: не станет ли однажды так называемый современный авангард – со своей революцией в области формы – типичным искусством для неокапиталистического общества и, следовательно, орудием просвещенного застоя, стремящегося удовлетворить взыскующие умы сотворением какого-нибудь «культурного чуда», вызывая у нас те же опасения, что и чудо экономическое?
Вопрос резкий, но его нельзя назвать глупым. Эстетические ценности не полностью лишены связей с той или иной исторической ситуацией во всей ее сложности, а также с соответствующими экономическими структурами. Искусство рождается в определенном историческом контексте, отражает его и способствует его изменению. Выявить наличие этих связей – значит осознать положение данной эстетической ценности в сфере культуры в целом, а также ее возможное (или невозможное) отношение к другим ценностям.
Существуют ли ответы на эти вопросы? Ясно, что искусство, разрушающее сложившиеся психологические и культурные привычки, всегда в любом случае прогрессивно. В данном случае термин «прогрессивно», конечно, не имеет политического оттенка, хотя какое-то время назад авторитетный парламентарий в одном авторитетном журнале обличил серийную музыку как «марксистскую», в то время как в журналах другого направления, напротив, наблюдается тенденция осуждать всякий звуковой эксперимент, не имеющий – на первый взгляд – связи с исторической конкретикой.
Если обвинения в «консерватизме» связаны с вопросами, поставленными на предыдущих страницах, то обвинение в «марксизме», выдержанное в глупой маккартистской тональности, говорит о том, что его автор все-таки сумел почувствовать, будто серийная музыка, пусть только в сфере музыки, разрушила нечто, способствовавшее неизменности сложившегося порядка.
Наверное, эти две позиции, в равной мере поверхностные, как нельзя лучше отражают противоречия в развитии современного искусства. Мы знаем, что всякий раз, когда в искусстве на самом деле возникает мятежное движение, отвергающее закосневший мир и возвещающее о наступлении нового, тотчас появляется и некая академия, члены которой, перенимая внешние формы, технику, установки и стилистические особенности, свойственные первоначальному духу протеста, начинают разыгрывать бесконечные вариации на эту тему: бесчисленные, технические правильные, вызывающие громкие скандалы, но уже безобидные и по существу консервативные на любом уровне. Это происходит в литературе, живописи, музыке – как вчера, так и сегодня. Однако плодотворность самой ситуации как раз и заключается в этой характерной для нее диалектике. Ее творческие возможности раскрываются в этом противоборстве поступательного и попятного движения, протеста и конформизма.
Представим архитектора, который работает в современном мире, и поразмыслим о связи его работы с той человеческой средой, которая его окружает. Представим себе кого-нибудь наподобие Фрэнка Ллойда Райта, вспомним о его поистине открытых произведениях, их динамичную и изменчивую связь с окружающей средой, их способность принимать самые разные ракурсы и в то же время подвигнуть человека на эстетические поиски, обеспечивая полное слияние обитателей жилого дома с природной средой. Но, быть может, такие строения отражают некий индивидуалистический идеал и дают аристократическое решение серьезным проблемам совместного проживания – дают как раз в тот период, когда от архитектора и его искусства требуется совсем иное? Но в таком случае Райт, разрабатывая свои образцовые формы, был художником некоего закрытого общества, просто не замечавшего тех больших проблем, которые заявляли о себе в окружавшем его мире? Или, может быть, сегодня он не предлагал решений для завтрашнего дня, творил на век вперед, изобретая дом для обитателей совершенного общества, где будут учитываться все особенности человека, где архитектура не позволит свести его к безличной единице внутри массы, даст ему возможность выработать собственное, творческое отношение к его физическому окружению? Быть может, в таком случае формы, придуманные Райтом, – просто высшее проявление запросов того общества, которого уже не может быть, или некоего возможного общества, для которого в сфере практических отношений будут трудиться другие художники, а не он, работавший на уровне форм?
Вместо ответа приведем еще один пример. В определенный период своей жизни, находясь в определенной исторической ситуации, Шёнберг, узнав о варварстве, чинимом нацистами, буквально взрывается от боли и негодования и пишет «Выжившего в Варшаве». Наверное, это был тот миг, когда в современной музыке в полной мере отразилась человеческая и гражданская позиция художника, и эта музыка показала, что она на самом деле может говорить о человеке и для человека. Но смогла бы эта музыка по-настоящему выразить ту историческую трагедию, которой вдохновилась, и тот протест, которым она была исполнена, если бы музыкант, совершенно не думая о том, что сегодня поют, не начал работать на уровне чистых музыкальных структур, вкладывая в них, и только в них, новые принципы речевой организации, новые способы мыслить, новые законы отношения к действительности? Если бы речь шла только о той бинарной шкале тональности, которая праздновала свой запоздалый триумф в гершвиновской «Рапсодии в голубых тонах», мы не могли бы с помощью музыки «говорить» нечто существенное о той ситуации, в которой находимся сегодня.
Итак, скажем еще раз: искусство может выбирать любые сюжеты, но единственное, по-настоящему значимое содержание – это тот способ, которым оно устанавливает свое отношение к миру и разрешает эту установку на уровне художественных структур в смысле образования формы. Рано или поздно придет и все остальное, но придет только в том случае, если оно опосредовано формальными структурами, которые, будучи восприняты в их подлинном смысле и значении, представляют собой отрицание всякого формализма.
Это позволяет предположить, что направление, в котором движется современное искусство, вместе со своим историческим «объяснением» имеет и свое «оправдание». Однако для окончательного ответа, наверное, необходимо предпринять новое исследование, по отношению к которому предлагаемое нами может служить введением.
В заключение хочу напомнить, что исследования природы открытого произведения не начались бы, если бы я не имел привычки наблюдать, как работает Лучано Берио, если бы не обсуждал эти проблемы с ним самим, а также с Анри Пуссёром и Андре Букурешлиевым. Что касается взаимоотношений между современной поэтикой и научной методологией, то я никогда бы не отважился ступить на эту зыбкую почву, если бы не беседы о проблемах современной науки, которые мне довелось вести с Джанбаттистой Дзордзоли. Наконец, по цитатам и косвенным ссылкам читатель поймет, насколько я обязан Луиджи Парейзону. Мое исследование современных формальных структур неизменно ведется в соотнесении с тем понятием «формообразования», над которым работает Туринская школа эстетики, хотя найденные ею решения – в результате включения их в контекст философской беседы – могут вызвать обеспокоенность личного порядка и влиться в комплекс тех проблем, ответственность за которые может взять на себя только автор.
1962
Предисловие ко второму изданию
Энгр упорядочил покой, а я хотел бы упорядочить движение.
Клее
Формальные отношения в произведении и между различными произведениями составляют порядок, метафору вселенной.
Фоссийон
Очерки, включенные в эту книгу, родились из доклада «Проблема открытого произведения», прочитанного на XII Международном философском конгрессе в 1958 г. В 1962 г. они появились под заголовком «Открытое произведение». В том издании они были дополнены обстоятельным исследованием, посвященным поэтике Джойса, где автор, исходя из собственных соображений, пытался проследить развитие художника, в творчестве которого замысел открытого произведения совершенно ясно обозначает (на уровне изысканий в области оперативных структур) целое приключение, переживаемое культурой, решение идеологической проблемы, смерть одного нравственного и философского мира и рождение другого. Теперь это исследование опубликовано отдельно под заголовком «Поэтики Джойса», и, таким образом, настоящий том включает в себя только теоретические работы на упомянутую тему, составляющие единое целое. Однако мы добавили сюда пространный очерк («О способе формообразования как отражении действительности»), появившийся в пятом номере «Менабо» через несколько месяцев после публикации «Открытого произведения» и, следовательно, написанный в русле той же самой плодотворной дискуссии. Таким образом, этот текст по праву находится в «Открытом произведении»; как и другие очерки этого сборника, он вызвал в Италии бурные споры, которые сегодня показались бы бессмысленными – причем не столько потому, что эти очерки устарели, сколько потому, что обрела молодость итальянская культура.
Если бы нам пришлось в нескольких словах дать представление о предмете настоящих исследований, мы сослались бы на понятие, теперь уже вошедшее во многие современные эстетики: произведение искусства – принципиально неоднозначное сообщение, множественность означаемых, которые сосуществуют в одном означающем. Это характерно для любого художественного произведения, что мы и стремимся доказать в нашем втором очерке («Анализ поэтического языка»), но тема первого и последующих очерков сводится к тому, что такая многозначность становится (в современных поэтиках) одной из ясно определенных установок автора, задачей, которую надо осуществить прежде прочих, согласно свойствам самих произведений; для их характеристики нам показалось уместным использовать понятия, взятые из теории информации.
Поскольку для осуществления этой задачи современные художники нередко обращаются к идеалам неформальности, неупорядоченности, случайности, неопределенности результатов, мы также попытались решить проблему диалектической связи между «формой» и «открытостью», то есть установить, в каких пределах то или иное произведение может быть максимально многозначным и зависеть от деятельного вмешательства человека, не переставая, однако, быть «произведением». При этом под «произведением» мы понимаем объект, наделенный определенными структурными свойствами, которые допускают, но в то же время координируют смену истолкований, смещение перспектив.
Как раз для того, чтобы понять, какова природа той многозначности, к которой стремятся современные поэтики, нам в этих очерках пришлось наметить еще один ракурс исследования, в некоторых отношениях приобретший первостепенную значимость: мы попытались выяснить, каким образом оперативные программы искусства соотносятся с программами, разработанными в области современного научного исследования. Иными словами, мы попытались выяснить, каким образом определенное представление о произведении находится в связи с современными научными методами или в явной зависимости от них, особенно в области психологии или логики.
Представляя первое издание этой книги, мы сочли уместным обобщить эту проблему в виде формул, имевших явно метафорическую окраску. Мы писали так: «Единая тема этих исследований – реакция искусства и его творцов (формальных структур и поэтических программ, им предшествующих) на Случай, Неопределенное, Вероятное, Двусмысленное, Поливалентное… В общем, мы исследуем различные моменты, когда современному искусству приходится считаться с Неупорядоченностью, которая не является слепым и неисправимым беспорядком, отменяющим всякую возможность упорядочить, но представляет собой плодотворный беспорядок – чью позитивность показала нам современная культура: разрушение традиционного Порядка, который западный человек считал неизменным и отождествлял с объективным строением мира… Теперь, поскольку эта проблема решается, хотя и не без проблем, в течение целого века, и вылилась в пересмотр методики, в установление историцистских диалектических соотношений, в гипотезы неопределенности, статистической вероятности, временных и изменчивых экспликативных моделей, искусству осталось лишь принять эту ситуацию и попытаться (в чем и заключается его призвание) выработать для нее форму».
Но надо признать, что в столь деликатном вопросе, как соотношение между различными научными дисциплинами, в вопросе «аналогий» между разными оперативными приемами, метафора, несмотря на всяческие предосторожности, рискует быть понята как метафизика. Поэтому мы считаем полезным более основательно и четко изложить: 1) какова сфера нашего исследования; 2) какое значение имеет понятие открытого произведения; 3) что мы имеем в виду, когда говорим о «структуре открытого произведения» и сравниваем эту структуру со структурой других культурных феноменов; 4) наконец, останется ли такое исследование единичным или предварит дальнейшие поиски соотношений.
1. Прежде всего, надо отметить, что данные очерки являются не столько очерками теоретической эстетики (они не разрабатывают, но скорее предполагают ряд определений искусства и эстетических ценностей), сколько представляют собой очерки истории культуры или, точнее, истории различных поэтик. В них мы стремимся высветить определенный (настоящий) момент в истории западной культуры, выбирая в качестве отправной точки и подхода (approach) поэтику открытого произведения. Что мы понимаем под «поэтикой»? Целое направление – начиная с русских формалистов и кончая современными потомками пражских структуралистов – понимает под «поэтикой» исследование лингвистических структур литературного произведения. В своем «Premi?re Le?on du Cours Poеtique»[15 - «Первый урок курса поэтики» (фр.).] Валери, применяя этот термин для всех видов искусства, говорил об исследовании художественного делания, того ро?еin, «которое завершается созданием какого-либо произведения», о «действии, которое творит», о характере того акта производства, который направлен на создание предмета с учетом его будущего потребления.
Мы понимаем «поэтику» в более классическом смысле: не как систему ограничивающих правил (Ars Poetica[16 - Поэтическое искусство (лат.).] как абсолютная норма), а как оперативную программу, которую художник раз за разом намечает себе, как замысел произведения, которым явно или подспудно руководствуется. Явно или подспудно: в действительности исследование поэтики (а также история поэтики и, следовательно, история культуры с точки зрения поэтики) основывается на вполне однозначных заявлениях художника (например, «Поэтическое искусство» Верлена или предисловие к «Пьеру и Жану» Мопассана) или на анализе структуры произведения, таким образом, чтобы, постигая способ его создания, прийти к определенному выводу о том, как автор хотел его создать. Следовательно, ясно, что в выбранном нами значении понятие «поэтики» как проекта формирования или структурирования произведения охватывает и первую из двух приведенных ипостасей: исследование изначального замысла углубляется благодаря анализу окончательно сложившихся структур художественного произведения, воспринимаемых как свидетельство оперативного замысла, как его следы. При подобном методе исследования невозможно не замечать разницы между замыслом и результатом (в произведении сосуществуют первоначальный замысел и окончательный результат, даже если одно с другим не совпадает), и тут вновь заявляет о себе и то значение, которое вкладывал в этот термин Валери.
С другой стороны, в данном случае исследование поэтики занимает нас не потому, что мы хотим выяснить, насколько соответствует произведение своему первоначальному замыслу: это дело критики. Нам интересно выявить различные замыслы, разные художественные принципы, чтобы с их помощью пролить свет (даже если на их основе были созданы произведения неудачные или спорные с эстетической точки зрения) на определенный этап истории культуры. Но, разумеется, в большинстве случаев проще разбирать какую-либо поэтику, обращаясь к произведениям, которые, на наш взгляд, полностью воплотили ее установки.
2. Понятие «открытого произведения» не имеет аксиологического значения. В этих очерках мы не стремимся к тому (кое-кто так и понял их, а потом виртуозно доказал неправомочность подобного тезиса), чтобы разделить произведения искусства на значительные («открытые») и незначительные, устаревшие, плохие («закрытые»); по нашему мнению, мы в достаточной мере показали, что открытость, понимаемая как принципиальная неоднозначность художественного сообщения, характерна для любого произведения в любое время. Некоторым художникам и романистам, которые, прочитав эту книгу, показывали нам свои произведения и спрашивали, «открытые» ли они, мы были вынуждены с явным полемическим преувеличением ответить, что никогда не видели «открытых произведений» и что в действительности таких, вероятно, не существует. Этим парадоксом мы хотели сказать, что понятие «открытого произведения» не является категорией критики, но представляет собой гипотетическую модель, пусть даже разработанную путем анализа широкого конкретного материала, крайне полезную для того, чтобы, с помощью гибкой и подвижной формулы, указать, в каком направлении развивается современное искусство.
Иными словами, феномен открытого произведения мы могли бы обозначить словом Kunstwollen, как называл его Ригль, а Эрвин Панофский еще лучше (освобождая это понятие от некоторых следов идеализма) – как «последний и окончательный смысл, который обнаруживается в различных художественных феноменах независимо от сознательных решений и психологических установок автора»; при этом он добавлял, что такое понятие указывает не столько на то, как художественные проблемы решаются, сколько на то, как они ставятся. В эмпирическом смысле мы можем сказать, что речь идет о пояснительной категории, выработанной для того, чтобы проиллюстрировать тенденцию, характерную для различных видов поэтики. Следовательно, поскольку речь идет об оперативной тенденции, она может принимать самые различные облики, встречаться в многочисленных идеологических контекстах, заявляя о себе более или менее явно, – и таким образом, чтобы ее выявить, пришлось превратить ее в жесткую абстракцию, которая нигде конкретно не обнаруживается как таковая. Такая абстракция как раз и является моделью открытого произведения.
Говоря «модель», мы предполагаем определенный ход рассуждений и методологическое решение. Вспоминая ответ, данный Леви-Строссом Гурвичу, скажем, что к модели мы обращаемся только в той мере, в какой ею можно управлять: она представляет собой оперативный рабочий прием. Модель разрабатывается для того, чтобы указать общую форму в различных феноменах. Мы воспринимаем открытое произведение как модель, и это означает, что, с нашей точки зрения, в различных способах оперирования можно выявить некую единую оперативную тенденцию, тенденцию создавать произведения, которые, с точки зрения их потребления, представляют некоторые структурные сходства. Именно потому, что она абстрактна, данная модель воспринимается как соотносимая с разными произведениями, которые в других отношениях (идеологии, использованного материала, жанра, призыва – обращенного к потребителю) остаются весьма различными. Кое-кого возмутил тот факт, что мы предлагаем применять разработанную модель открытого произведения как к неформальной живописи, так и к драматургии Брехта. Показалось невозможным, чтобы призыв к чистому наслаждению формой, материалом имел какое-то сходство с призывом «ангажированного» свойства к рациональному обсуждению политических проблем. В данном случае проявилось непонимание того, что, например, анализ неформальной картины направлен только на то, чтобы выявить определенный тип отношения между произведением и его потребителем, момент диалектической связи между структурой объекта как фиксированной системой отношений и реакцией потребителя, выраженной в свободном внедрении в систему и активном перетолковании этой же системы. И, излагая эти наблюдения, мы с удовольствием процитируем интервью Ролана Барта журналу «Тель Кель», в котором он блестяще определяет наличие этого типичного отношения в драмах Брехта. «Связывая театр значения с политической мыслью, Брехт в то же самое время, если можно так выразиться, утверждал общий смысл, но не давал ему конкретного наполнения. Конечно, его театр идеологичен: откровеннее, чем многие другие: он однозначно высказывается о природе, труде, расизме, фашизме, истории, войне, отчуждении, но все-таки это театр сознания, а не действия, постановки проблемы, а не ответа на нее, и, как все языки литературы, он служит для того, чтобы обозначать, а не действовать; все пьесы Брехта завершаются скрытым призывом “Ищите выход”, обращенным к зрителю во имя расшифровки, прояснения смысла, к какому подводит вся фактура спектакля… роль системы здесь заключается не в передаче некоего положительного сообщения (это не театр означаемых), а в разъяснении того, что мир есть объект, который надо расшифровать (театр означающих)».
В этой книге мы разрабатываем модель открытого произведения, опираясь не столько на произведения, похожие на драмы Брехта, сколько на такие, в которых формальная изощренность структур, обращенных на самое себя, выражена более явно и решительно; объясняется это тем, что в таких произведениях модель просматривается яснее. А еще тем, что пример драматургии Брехта все еще остается почти единственным примером открытого произведения, разрешающегося в конкретный идеологический призыв, или, лучше сказать, единственным ясным примером идеологического призыва, разрешающегося в открытое произведение и, следовательно, способного перевести новое видение мира не только на язык содержаний, но и на язык коммуникативных структур.
3. Гипотезу о наличии постоянной модели оказалось возможным выдвинуть исходя из того факта, что, как нам представляется, отношение производство – произведение – пользование в различных случаях имеет сходную структуру. Наверное, надо отчетливее пояснить, какой смысл хотим мы вложить в понятие «структура открытого произведения», так как термин «структура» сам по себе недостаточно определен и используется (даже в этой книге) в самых разных значениях. Мы будем говорить о произведении как о «форме», то есть как об органическом целом, рождающемся из слияния различных уровней предшествующего опыта (идеи, эмоции, оперативные установки, материал, модули организации, темы, сюжеты, готовые стилемы и акты авторской фантазии). Форма – это завершенное произведение, конечная точка производства и исходная точка потребления, рецепции, которая – в процессе своего развития – всегда, с каждым разом, вселяет новую жизнь в исходную форму, заставляя рассматривать ее под различными углами зрения.
Однако иногда в качестве синонима термина «форма» мы будем использовать термин «структура», хотя надо отметить, что структура является формой не как конкретный объект, а как система отношений на различных уровнях (семантическом, синтаксическом, физическом, эмотивном; уровне тем и уровне идеологических содержаний, уровне структурных отношений и структурированного ответа реципиента, и так далее). Таким образом, мы будем говорить не о форме объекта, а о структуре, когда захотим пролить свет не на его индивидуальную физическую природу, а выявить его способность подвергаться анализу, распадаться на отношения, чтобы тем самым выделить среди них тип связи с потребителем, отраженный в абстрактной модели открытого произведения.
Однако мы сводим форму к системе отношений как раз для того, чтобы выявить всеобщность и перемещаемость этой системы, то есть для того, чтобы показать в отдельном объекте присутствие «структуры», которая роднит его с другими объектами. Мы как бы «развоплощаем» объект, чтобы сначала увидеть его структурный «скелет», а затем определить те связи, что являются общими и для других «скелетов». В конечном счете, подлинной «структурой» произведения является то, что объединяет его с другими произведениями; именно то, что выявляется при помощи модели. Таким образом, «структурой открытого произведения» будет не отдельно взятая структура тех или иных произведений, а общая модель (о которой мы уже говорили), описывающая не просто группу произведений, а группу произведений постольку, поскольку они поставлены в определенное отношение с реципиентами.
В заключение отметим два момента:
А) Модель открытого произведения воспроизводит не предполагаемую объективную структуру произведения, а структуру отношения к нему потребителя; форма поддается описанию только в той мере, в какой она порождает порядок собственных истолкований, и вполне ясно, что, действуя согласно этому постулату, мы отходим от строгого объективизма, характерного для ортодоксальных структуралистских течений, которые считают возможным анализировать только означающие формы, не принимая во внимание изменчивую игру означаемых, какую разворачивает перед нами история. Если структурализм претендует на то, что может анализировать и описывать произведение искусства как «кристалл», как чистую означающую структуру вне истории ее истолкований, тогда прав Леви-Стросс в своей полемике с «Открытым произведением» (например, в интервью, которое ученый дал Паоло Карузо для «Паэзе сера – Либри» 20 января 1967 г.): «наше исследование не имеет ничего общего со структурализмом».
Но возможно ли так решительно пренебречь положением истолкователей, помещенных в исторический процесс, и рассматривать произведение как кристалл? Когда Леви-Стросс и Якобсон анализируют «Кошек» Бодлера, выявляют ли они структуру, находящуюся за пределами всех ее возможных прочтений, или, напротив, предлагают ее вариант, возможный только сегодня, в свете культурных завоеваний нашего века? На этом сомнении и основывается все «Открытое произведение».
Б) Модель открытого произведения, полученная таким образом, является исключительно теоретической и существует независимо от того, действительно ли имеют место произведения, которые можно определить как «открытые».
После этих предпосылок нам остается повторить, что, когда мы говорим о структурном сходстве между различными произведениями (в нашем случае о сходстве с точки зрения структурных модальностей, дающих возможность многозначного восприятия), это не значит, что мы считаем, будто существуют некие объективные факты, обладающие сходными признаками. Это означает, что при всем многообразии сообщений представляется возможным и полезным определить каждое из них, используя одни и те же инструменты и затем сводя их к сходным параметрам. Это уточнение надо сделать для того, чтобы пояснить второй момент. Мы говорили о структуре объекта (в данном случае произведения искусства) и равным образом уже касались структуры действия и процесса, будь то действие, направленное на создание произведения (и замысел поэтики, которая его определяет), или исследовательское действие ученого, которое приводит к появлению тех или иных определений, гипотетических объектов, различных видов реальности, воспринимаемых, по меньшей мере временно, как определенные и стабильные. В этом смысле мы говорили об открытом произведении как об эпистемологической метафоре (тоже, естественно, используя метафору): поэтика открытого произведения обнаруживает структурные признаки, сходные с другими операциями в области культуры, направленными на прояснение каких-либо природных явлений или логических процессов. Для того чтобы выявить эти структурные сходства, мы сводим операции поэтики к определенной модели (проект открытого произведения), дабы тем самым выяснить, имеет ли она признаки, сходные с другими исследовательскими моделями, с моделями логической организации, с моделями тех или иных процессов восприятия. Следовательно, если мы устанавливаем, что современный художник, создавая свое произведение, предполагает, что отношение между этим произведением, им самим и потребителем не будет однозначным (подобно тому, что предвидит ученый в отношениях между фактом, который он описывает, и самим описанием или между его представлением о вселенной и другими возможными ракурсами ее восприятия), это вовсе не означает, что мы хотим любой ценой отыскать глубокое, субстанциальное единство предполагаемых форм искусства с предполагаемой формой реальности. Это означает, что надо установить, нельзя ли, с целью определить оба отношения (если мы определяем оба объекта, участвующие в этих отношениях), использовать сходные средства определения. И не случилось ли так, что инстинктивно или не вполне осознанно это уже происходило? Результатом является не раскрытие природы вещей, а прояснение культурной ситуации в том действии, в котором выявляются связи (требующие углубления) между различными отраслями знания и видами человеческой деятельности.
В любом случае надо отметить, что наши очерки вовсе не притязают на выработку каких-то окончательных моделей, позволяющих провести строгое исследование (как, например, в тех работах, где проводится сравнение между социальными и лингвистическими структурами). Когда писались эти очерки, мы не в полной мере представляли себе все возможности, скрытые в методе, какой мы сегодня излагаем. Тем не менее, мы считаем, что эти очерки могут указать направление, в котором мы или кто-либо другой может действовать сходным образом. Мы считаем, что, следуя этой направляющей линии, можно опровергнуть возражения, согласно которым любое сравнение методов изучения искусства и науки представляет собой безосновательную аналогию.
Нередко научные категории довольно свободно переносятся в другие контексты (нравственный, эстетический, метафизический и так далее), и ученые сделали очень хорошо, предупредив, что данные категории представляют собой орудия чисто «домашние», кустарные, для внутреннего потребления, действенные только в их весьма ограниченной сфере. Но, помня об этом, мы считаем, что заняли бы чересчур неплодотворную позицию, если бы не попытались поставить вопрос: не существует ли некое единство «поведения» различных культурных подходов? Стремясь установить это единство, мы, с одной стороны, выяснили бы, до какой степени может быть однородной культура, а с другой – попытались бы на междисциплинарной основе на уровне культурных поведенческих структур реализовать то единство знания, которое на метафизическом уровне оказалось иллюзорным, но, которое, тем не менее, все время пытаются осуществить, чтобы сделать однородными и открытыми друг для друга наши рассуждения о мире. Как это можно осуществить: через выявление универсальных структур или через выработку метаязыка? Нельзя сказать, что наше исследование никак не связано с решением этой проблемы, но ясно, что оно этим не исчерпывается. Такие исследования проводятся как раз для того, чтобы однажды можно было собрать воедино все полезные элементы и решить проблему.
4. А теперь последний вопрос – о пределах наших рассуждений. Можем ли мы сказать, что, разрабатывая понятие открытого произведения, мы тем самым даем ответ на все вопросы, касающиеся природы и функции современного искусства или искусства вообще? Конечно нет. Но если мы ограничим их предельно частной проблемой активного восприятия произведения, не будет ли это означать, что проблематика искусства сведется к неким бесплодным рассуждениям о формальных структурах, а в тени останутся отношения к истории, конкретная ситуация, те ценности, которые в большей степени нас занимают? Наверное, это покажется невозможным, но именно такое соображение было воспринято как основное. Это кажется невозможным потому, что никто, например, не стал бы упрекать энтомолога, если он слишком долго анализирует характер полета пчелы, не бросаясь изучать ее онтогенез, филогенез, способность давать мед, а быть может, и ту роль, которую производство меда играет в мировой экономике. С другой стороны, верно и то, что произведение искусства – не насекомое, и его связь с историей не является второстепенной или случайной, но она определяет это произведение таким образом, что было бы рискованно сводить его к абстрактной игре коммуникативных структур и равновесных отношений, в которых означаемые отсылки к исторической ситуации, а также практическая действенность рассматриваются только как элементы отношения, эмблемы среди прочих эмблем, как неизвестные величины какого-то уравнения. Здесь снова становится актуальным спор о законности синхронического исследования, которое предшествует диахроническому и абстрагируется от него.
Многих не удовлетворил наш постулат, согласно которому описание коммуникативных структур станет лишь первым шагом, необходимым во всяком исследовании, а впоследствии сможет связать их с более широким культурным фоном, представит произведение как факт, включенный в историю. Тем не менее – после всех дополнений – мы все-таки не считаем возможным отстаивать какой-либо другой тезис, который может обернуться импровизацией, великодушным желанием тотчас все объяснить, и объяснить плохо.
Противопоставление процесса и структуры представляет собой широко обсуждаемую проблему: как отмечает Леви-Стросс, при исследовании социальных групп «нужно было дожидаться антропологов, чтобы выявить, что социальные феномены подчиняются структурной упорядоченности. Причина проста: дело в том, что структуры открываются только стороннему наблюдению».
Скажем от себя, что в области эстетики (поскольку отношение между истолкователем и произведением всегда было изменчивым) это заметили гораздо раньше. Никто не сомневается, что искусство представляет собой способ структурирования определенного материала (понимая под материалом саму личность художника, историю, язык, традицию, конкретную тему, представление о форме, мир идеологии), зато говорят (и всегда в этом сомневаются), что искусство может рассказать о мире и историю, его порождающую, истолковывать ее, судить о ней, выискивать в ней какие-то замыслы – только этим способом создания формы; в то же время, рассматривая произведение как определенный способ формообразования (ставший способом его бытия в сформированном виде благодаря этому способу, которым мы, истолковывая его, его же формируем) можем лишь через его конкретный облик воссоздать историю, его породившую.
Идеологический мир Брехта родствен идеологическому миру многих других людей, с которыми нас могут связывать одинаковые политические взгляды, схожие установки к действию, но он становится универсумом Брехта, только когда складывается как вид театральной коммуникации, обретающей свои собственные признаки, наделенные точными структурными характеристиками. Только при таком условии он становится чем-то большим, чем изначальный идеологический мир, становится способом его оценки и возможностью сделать его наглядным, позволяет понять его даже тому, кто не разделяет его установок, показывает те возможности и то богатство, каких теоретик в своем исследовании не касается; лучше сказать, именно благодаря той структуре, которую он принимает, этот мир призывает нас к сотрудничеству, обогащающему его. Разрешившийся в некий способ формообразования и воспринимаемый именно так, он не скрывает от нас и всего остального: дает нам ключ, позволяющий войти в него или через сопереживание, или через критическое исследование. Но надо преодолеть уровень структурных значений. Как подчеркивали Якобсон и Тынянов, возражая против чрезмерной узости и скованности первоначального русского формализма, «история литературы глубинным образом связана с другими историческими “рядами”. Каждый из этих рядов характеризуется своими собственными структурными законами. Не исследуя этих законов, невозможно установить связи между литературными рядами и другими совокупностями культурных феноменов. Исследовать систему систем, игнорируя внутренние законы каждой отдельной системы, – значит совершать грубую методологическую ошибку».
Ясно, что с такой позиции и начинается диалектика: если мы исследуем произведения искусства в свете характерных для них структурных законов, это не означает, что мы отказываемся от выработки «системы систем», и потому можно было бы сказать, что обращение к исследованию структур произведения, к сравнительному анализу структурных моделей различных областей знания, представляет собой первый ответственный призыв к более сложному исследованию исторического толка.
Разумеется, различные культурные универсумы рождаются в том или ином историко-экономическом контексте, и было бы довольно трудно до конца их постичь без связи с последним: один из самых плодотворных уроков марксизма заключается в призыве к обнаружению связи между базисом и надстройкой, которая, разумеется, понимается как связь диалектическая, а не как однозначно детерминированное отношение. Но произведение искусства, так же как научный методологический проект и философская система, не соотносится с историческим контекстом непосредственно, если, конечно, не прибегать к удручающим биографическим отсылкам (такой-то художник родился в такой-то среде или живет за счет такой-то среды, и поэтому его искусство отражает ее жизнь и интересы). Произведение искусства или система мысли определяются сложной сетью влияний – большинство из них проявляется на том самом уровне, частью которого является данное произведение или данная система; внутренний мир поэта складывается под влиянием стилистической традиции, выработанной предшествующими поэтами в той же, а может даже в большей, степени, чем под влиянием тех исторических обстоятельств, под которые подстраивается его идеология, а через стилистические влияния он усваивает вместе с определенным способом создания формы определенный взгляд на мир. Произведение, которое он создаст, получит тончайшие связи с тем же историческим моментом, сможет выразить следующую фазу общего развития контекста или отразить глубинные уровни фазы, в которой живет художник, те уровни, которые его современники еще не видят так ясно, как он. Но если говорить о том, чтобы обнаружить с помощью этого способа формирования структур все связи произведения с тем временем, когда оно возникло, а также с прошлым и с будущим, то непосредственное историческое исследование сможет дать только приблизительные результаты. Только сравнивая этот modus operandi[17 - Образ действий (лат.).] с другими культурными установками эпохи (или различных эпох, с учетом расхождений, которые, пользуясь марксистской терминологией, мы можем назвать «неравномерностью развития»), только выявив среди них общие элементы, свести их к одним и тем же категориям, то обозначится направление, следуя которому дальнейшее историческое исследование должно определить более глубокие и четкие связи, лежащие в основе сходства, обозначенного ранее. По большому счету, когда (как в нашем случае) область исследования представляет собой период, судьями и порождением которого мы одновременно являемся, игра отношений между культурными феноменами и историческим контекстом оказывается еще более запутанной. Каждый раз, когда, в полемическом задоре или в догматическом упорстве, мы пытаемся навязать какое-то непосредственное отношение, то мы перерабатываем в миф историческую реальность, которая всегда оказывается более богатой и тонкой, чем продукт нашего творчества. Поэтому упрощение, возникающее из описания на базе структурных моделей, не означает сокрытия реальности: оно представляет собой первый шаг в ее понимании. Здесь, на более эмпирическом уровне, устанавливается связь, все еще проблематичная, между формальной и диалектической логикой (таким, в конечном счете, нам представляется смысл многих нынешних дискуссий по поводу диахронической и синхронической методологии). Мы убеждены в том, что оба универсума воссоздаваемы, что в какой-то мере, хотим мы или нет, историческое сознание оказывает свое воздействие на любое исследование формальных конфигураций тех или иных феноменов, и что оно будет воздействовать и в дальнейшем, когда в научный обиход будут введены формальные модели, разработанные в контексте более широкого исторического дискурса, и ряд уточнений, быть может, заставит нас переработать саму изначальную модель.