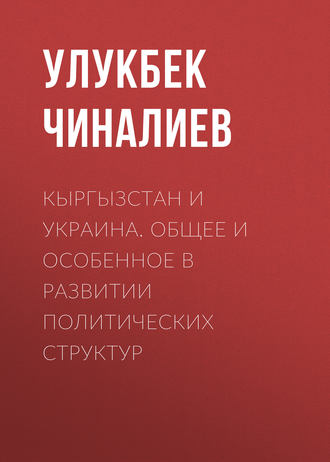
Кыргызстан и Украина. Общее и особенное в развитии политических структур
Перемены начались как безобидная и привычная реформа «сверху» и сводились к трем главным моментам: гласность, ускорение, перестройка. Целью реформ, как неоднократно уверял М. Горбачев, была коренная реконструкция социалистического общества в целом, построение социализма «с человеческим лицом», Сами по себе лозунги, выдвинутые М. Горбачевым, вполне вписывались в рамки марксистско-ленинской идеологии и существовавшей государственности. Но к середине 80-х годов общество устало от многочисленных демагогических обещаний, созрело к радикальным переменам и не могло удовлетвориться «косметическими мероприятиями».
В то же время реформы вызвали неприятие и недовольство партийной, советской и хозяйственной номенклатуры, увидевшей в них угрозу своей власти. Ведь М. Горбачев, по их мнению, посягнул на «святае святых» – саму партию.
Действительно, М. Горбачев считал необходимым «возродить» в партии атмосферу принципиальности, открытости, дискуссий, критики и самокритики, сознательной дисциплины, партийного товарищества и безусловной личной ответственности. Он предлагал отказаться от командного стиля, выборы партийных органов проводить в демократической обстановке, обеспечивающей состязательность кандидатов, ограничить срок пребывания на выборных руководящих постах и, что особенно вызывало сопротивление партноменклатуры, разграничить функции партийных и государственных органов, что вело к ограничению власти партии[45].
Консерваторы в партийном руководстве, многие руководители республиканских, областных, районных партийных комитетов, работники многочисленного партийного аппарата если не открыто, то внутренне сопротивлялись этим предложениям. Впрочем, доходило и до открытых выступлений против программы М. Горбачева.
В это время резко возросло влияние прессы, других средств массовой информации. Освобожденные в ходе перестройки от цензуры, они вскрывали истинные причины социального, политического, экономического кризиса, разоблачали злоупотребления номенклатуры. А поскольку реального улучшения ни в одной жизненно важной области не происходило, то М. Горбачев, ставший Президентом СССР и сохранивший за собой пост Генерального секретаря ЦК КПСС, стал терять авторитет внутри страны. К тому же он обрел сильного и опасного оппонента в лице Президента России Б. Ельцина, поставившего одной из первых своих политических задач избавление от диктата всесильного центра, который олицетворяли М. Горбачев и Политбюро ЦК КПСС.
Сложные процессы происходили в союзных республиках. Их руководящие партийные и советские органы, подчиняясь решениям КПСС, должны были хотя бы на словах поддержать выдвинутые М. Горбачевым лозунги, продублировать решения центра, но реальных шагов по их реализации почти не предпринимали. В связи с этим Украину, во главе которой стоял В. Щербицкий, с легкой руки средств массовой информации стали называть не иначе, как «бастионом застоя». Неровно, беспорядочно проводились реформы и в Кыргызстане.
В то же время в обеих республиках начатые реформы вызвали небывалое и непредвиденное повышение политической активности «низов», которые требовали безусловного обеспечения гласности, замены скомпрометировавших себя руководителей и привлечения их к ответственности, полной реабилитации жертв тоталитарного режима, повышения функционального значения национальных языков, восстановления правды и справедливости в отношении исторического прошлого народов, их традиций, обычаев, духовных ценностей. Нарастала волна национализма, властные структуры стали расшатываться. К концу 80-х годов в обеих республиках возникли новые политические течения – Демократическое движение Кыргызстана[46] и Народный Рух (движение) Украины[47], которые быстро завоевали популярность. В ходе выборов в Верховные Советы республик лидеры и активисты новых течений стали народными депутатами, что повысило их роль в политической жизни. Коммунистическая партия теряла политическую и идеологическую монополию.
Политический кризис углублялся. В ходе многочисленных собраний, митингов, а также в печати стали все чаще выдвигаться радикальные требования: передача всей полноты власти Советам, республиканская хозяйственная самостоятельность, переход к социалистическому рынку и др.
В Кыргызстане ситуация усугубилась после ошских событий (июнь 1990 г.), когда произошло крупное межэтническое столкновение, к сожалению, с многочисленными жертвами.
Летом и осенью 1990 г. в обстановке нарастающего кризиса, неразберихи и все углублявшегося паралича центральной власти мощно прозвучал голос союзных республик о суверенитете. В Украине Декларация о государственном суверенитете была принята Верховным Советом 19 июля 1990 г.[48]. В Кыргызстане многочисленные рассмотрения и обсуждения Декларации о государственном суверенитете длились с июля по декабрь 1990 г. и закончились 15 декабря принятием соответствующего конституционного закона[49]. Хотя ни украинская, ни кыргызская декларации не решали вопрос о государственной независимости, а носили скорее характер заявлений о намерениях, они сыграли важную роль в законотворческих процессах, а в дальнейшем – в законодательном оформлении независимости обеих стран.
К осени 1990 г. СССР вступил в новую заключительную фазу своей истории. Гласность привела к подлинной революции умов, общество резко изменилось, возросла политическая активность масс. Тем не менее из-за мощного сопротивления консерваторов и непоследовательности «архитекторов перестройки» во главе с М. Горбачевым ни одна из поставленных задач не была решена: не обеспечен в полной мере политический плюрализм как обязательная составная реальной демократии; вопрос о самостоятельности предприятий и создании рыночной экономики погряз в многочисленных бесплодных дискуссиях; заключение федеративного договора, тесно связанного с новым статусом союзных республик, из-за непримиримых противоречий тормозилось и откладывалось.
По большому счету, т. н. перестройка и не могла закончиться успешно. Причин здесь было несколько. Назовем лишь главные.
Первое. Перестройка, начатая М. Горбачевым и его сторонниками в ЦК КПСС, не имела новой идеологической платформы, политической и экономической стратегии. Она была направлена на «улучшение реального социализма», его гуманизацию, в том числе и в сфере экономики, хотя ожидание и даже требование радикальных перемен в обществе было очевидным.
Второе. Несмотря на заметное оживление политической жизни, активизацию масс, большинством людей все события, связанные с перестройкой, воспринимались как схватка между консерваторами и прогрессистами, которые уже позднее самоназвались «демократами».
Третье. Группа демократов в высшем политическом и государственном руководстве не была сплоченной, объединенной общей идеей. Были более радикальные, менее радикальные и такие, которые не имели собственных устремлений на реформы и выжидали. Последние затем стали ядром августовского путча. М. Горбачев метался между этими группами, пытаясь блюсти и свой личный интерес. В результате отсутствия единства «верхи» так и не решились на кардинальные реформы, не выработали соответствующего плана и к реальной перестройке фактически не приступили.
Четвертое. В республиках, в том числе в Кыргызстане и Украине, ждали исхода «битвы» в ЦК КПСС, зная, что средний слой номенклатуры настроен против реформ и против М. Горбачева. В дальнейшем и обретение республиками независимости в конечном итоге во многом зависело от того, по какому сценарию развивались события в Москве.
Пятое. Лишь в конце 1990 – начале 1991 гг. народные массы в большинстве республик оказали серьезную поддержку так называемым демократам, открыто пошли на сотрудничество с ними. В результате этого начал формироваться своебразный антикоммунистический блок. Главным тормозом перестройки новые демократические организации считали КПСС, хотя именно по инициативе руководства КПСС и начиналась перестройка. В результате стихийно-народных и организованных атак КПСС к середине 1991 г. начала разваливаться на части, а вскоре прекратила свое существование. Следом за КПСС неумолимо приходил черед распада СССР.
Между тем события развивались лавинообразно. В марте 1991 г. прошел всесоюзный референдум, на котором большинство населения высказалось за сохранение «обновленного Союза ССР», хотя четкого представления, что должно означать «обновление», среди народа не было. К тому же процесс дезинтеграции и суверенизации зашел так далеко, что референдум, по существу, уже ничего не решал. Об отказе в подготовке и подписании нового федеративного договора заявили Литва, Латвия, Эстония. Грузинский парламент провозгласил «переход к суверенной и полностью независимой Грузии». Стремились выйти из Союза Армения и Молдова. Кыргызстан и Украина принимали участие в подготовке нового договора, но в Верховном Совете Украине созрели мощные силы, требовавшие полной независимости.
Республики все больше демонстрировали свою независимость от центра. Например, 2 апреля 1991 г. был подписан Договор между Кыргызстаном и Украиной, в котором обе республики выступали как полноправные субъекты международных отношений, а в ст.1 Договора отмечалось, что «Высокие Договаривающиеся Стороны признают друг друга суверенными государствами».
Следует отметить и такой факт: Верховные Советы республик принимают ряд законов и постановлений, которые не соответствовали союзному законодательству и союзным распорядительным актам и утверждали суверенитет республик. Например, Верховный Совет Украины 3 августа 1990 г. принял закон «Об экономической самостоятельности Украинской ССР», своим постановлением от 16 апреля 1991 г. приостановил действие ряда статей Указа Президента СССР от 12 апреля 1991 г. на территории Украины, а постановлениями от 1 февраля и 6 июня 1991 г. предусмотрел переход в юрисдикцию Украины предприятий союзного подчинения, расположенных на территории республики и др.
Работа над новым текстом федеративного договора шла трудно, обнаруживалось все больше противоречий между «центром» и республиками. Наконец, 14 августа текст договора был опубликован. Однако он не мог удовлетворить ни центр, ни республики. Уступки, которых удалось добиться союзным республикам, носили скорее символический характер, не удовлетворяли их стремление к самостоятельности, к тому же механизм реализации многих положений не был разработан. В то же время консерваторы оценивали его не больше и не меньше, как «распродажу Советской Родины».
Выступая под флагом защиты «Советской Родины и завоеваний социализма», консерваторы, вдохновляемые ЦК КПСС, 18 августа 1991 г. создали во главе с вице-президентом СССР Г. Янаевым Государственный Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который объявил о переходе всей полноты власти в его руки в связи с болезнью М. Горбачева и ввел в Москву войска. Соответствующих действий ГКЧП потребовал и от руководителей союзных республик. Однако путчисты не имели четкого плана действий, нервничали, проявляли нерешительность, что дало возможность демократическим силам консолидироваться и разгромить их.
По всем политическим, идеологическим и военным меркам события августа 1991 г. не были путчем. Наоборот, это была попытка консервативного руководства страны остановить исторический процесс. Эту попытку возглавили все высшие руководители страны. Из высшего руководства не был привлечен к «путчу» только Б. Ельцин, стоявший в оппозиции к Политбюро ЦК КПСС. Действия ГКЧП не были направлены на изменение государственного строя, а на его сохранение. Иное дело, что этот строй был антинародным, репрессивным. И, наконец, главной силой, сковавшей действия ГКЧП, стали не армия, КГБ, МВД, а ставшие на путь демократических преобразований силы, причем главный удар нанесло новое руководство России во главе с Б. Ельциным. Политические амбиции нового центра власти в России оказались сильнее имперских амбиций старого центра.
Регионы, где рождались новые национальные центры власти, либо играли вспомогательную роль, отказывая в поддержке ГКЧП, либо просто выжидали, чем закончится борьба в Москве.
В Кыргызстане и Украине известие о создании ГКЧП и его решениях было воспринято неоднозначно. Верхушка компартий поддержала мероприятия ГКЧП. Бюро ЦК Компартии Кыргызстана при отсутствии кворума приняло соответствующее заявление. ЦК Компартии Украины направил на места телеграммы с поддержкой решений ГКЧП и соответствующими рекомендациями местным партийным органам. Правда, инициаторы поддержки путчистов так и не успели совершить какие-либо практические противоправные действия, а их заявления и телеграммы реальных последствий не имели.
Государственные органы реагировали на путч по-иному. Президент Кыргызстана А. Акаев выступил с резким неприятием ГКЧП и в связи с путчем издал ряд указов, одним из которых лишил компартию монополии на власть и фактически свел ее к роли обычной общественной организации, а другие предписывали ряд мероприятий по обеспечению защиты суверенитета и безопасности республики и др.
Украина, учитывая верность ее политического руководства коммунистическому центру, занимала особое место в планах ГКЧП. Однако Л. Кравчук, бывший тогда Председателем Верховного Совета республики, заявил московскому эмиссару генералу Варенникову, который пребывал в то время в Киеве, что введение чрезвычайного положения в отдельных регионах страны незаконно, а что касается Украины, то такое решение, согласно Конституции, может принять только Верховный Совет республики. Его председатель соответствующих полномочий не имеет. Через несколько часов Л. Кравчук обратился по телевидению к народу. Наша позиция, сказал он, это позиция взвешенности, защиты конституционных норм, защиты законов. Мы должны защитить законы, защитить демократию, утвердить в обществе законный порядок, защитить интересы людей. А главное, подчеркнул Л. Кравчук, мы должны действовать так, чтобы избежать кровопролития[50].
20 августа, т. е. на второй день путча, Президиум Верховного Совета Украины после некоторого колебания все же принял заявление, в котором отмежевался от мероприятий ГКЧП и заявил о действии в Украине Конституции СССР и Конституции Украины, ранее принятых Законов. Что касается демократической общественности обеих республик, то она с самого начала отвергла ГКЧП, его намерения и мероприятия.
После поражения ГКЧП всем стало ясно, что республикам с таким центром не по пути. 24 августа 1991 г. Верховный Совет Украины принял Акт провозглашения независимости Украины[51]. 1 декабря 1991 г. этот Акт был подтвержден всеукраинским референдумом. В Кыргызстане Декларация о государственной независимости принята Верховным Советом 31 августа 1991 г.[52].
Подобные решения были приняты и в других республиках. Но формально СССР продолжал существовать, его Президент М. Горбачев пытался реанимировать процесс подготовки и подписания федеративного договора, сохранить союзные властные структуры, хотя опираться ему было не на кого и не на что. Вскоре после путча в республиках были приняты решения о приостановлении деятельности, а затем о запрещении компартий. Армия в лице ее руководства отмежевалась от участия в политической борьбе, а КГБ вследствие многочисленных разоблачений и реформирования потерял былую силу.
Наконец 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) Президент России Б. Ельцин, Президент Украины Л. Кравчук и Председатель Верховного Совета Белоруссии В.
Шушкевич подписали соглашение, в котором провозглашалось прекращение существования СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ) в составе России, Украины, Белоруссии.
Многие юристы высказывали (и высказывают до сих пор) сомнение в легитимности принятых решений. При этом ссылаются на то, что решение о судьбе СССР должно приниматься при участии всех его субъектов. Но «большая тройка» решила зайти с другой стороны, подвести под документ иное основание. Они использовали тот факт, что Россия, Украина и Беларусь стояли у истоков Союза, им же и решать, ведь остальные республики присоединились к договору позже. Все же юристы считали такое обоснование зыбким. Позднее, уже 22 декабря 1991 года, на очередной встрече в Алматы документ подписали Казахстан и Среднеазиатские республики, затем к СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова. Таким образом, в состав СНГ вошли все бывшие советские республики, за исключением Литвы, Латвии, Эстонии.
В Беловежских документах констатировалось, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Дальше отмечалось, что на территориях подписавших его государств не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР, а деятельность его органов власти прекращается. Три республики провозгласили неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, гарантировали открытость границ и свободу передвижения граждан. Стороны на тот момент решили сохранить объединенное командование единым военно-стратегическим пространством, включая единый контроль над ядерным оружием.
Многое из намечавшегося в соглашении не реализовано, но главного лидеры трех республик достигли – они разрушили, а точнее, сделали последний толчок падающему имперскому монстру – СССР. Они конституировали независимость своих государств от рухнувшего центра империи.
Беловежские решения были восприняты в обществе неоднозначно. Многие рядовые граждане встретили распад СССР как нарушение общепризнанного порядка, даже как трагедию. Другие радовались обретенной независимости.
Однако было ясно, что произошедший внутренний взрыв огромной империи даст очень много прямых и косвенных результатов, не все из которых будут приятными, даже более того – позитивными. Уменьшилась – хотя не исчезла полностью – опасность глобальной войны, особенно ядерной. Открывались перспективы развития демократии и экономических реформ, духовного возрождения. Но развал старых структур власти приводил к экономическому и политическому хаосу внутри республик. Нарастала возможность гражданских беспорядков, ослабилась общественная дисциплина. В этих условиях был возможен возврат к авторитаризму или падение общества в полосу полной анархии.
Не ясно было, как в этой ситуации поведут себя армия, другие силовые структуры, каким образом будет осуществляться контроль над ядерным оружием, как среагирует на события «центр» во главе с М. Горбачевым, заявлявшим, что он категорически не согласен с распадом СССР.
Однако попытки М. Горбачева реанимировать процесс подписания нового союзного договора были обречены на неудачу, сам он был деморализован и находился под прессом страха раскрытия его осведомленности о подготовке путча, а может быть, и прямого или косвенного участия в нем. К тому же М. Горбачев реальной властью уже не обладал и вынужден был заявить об уходе с поста Президента СССР. Компартийные силы растерялись да в условиях запрета КПСС уже не представляли былой сплоченной организации и ничего серьезного не могли предпринять. Армия находилась в состоянии агонии и развала. Других сил, способных противодействовать распаду СССР, в стране тоже не нашлось.
Российское руководство во главе с Б. Ельциным считало Беловежские соглашения большим достижением, поскольку они юридически оформляли прекращение деятельности союзных органов, которые вместе с материальными и финансовыми ресурсами переходили под юрисдикцию России.
Национально-демократические деятели Украины и Президент Л. Кравчук оценивали соглашения о создании СНГ как форму «цивилизованного развода». Среднеазиатские республики, в т. ч. и Кыргызстан, поначалу растерялись, независимость для них оказалась неожиданной и во многом непонятной. Но они вынуждены были примириться с новыми реалиями и искать пути построения собственной государственности.
И тем не менее, пути Кыргызстана, Украины, других бывших союзных республик к независимости, как видим, были во многом одинаковы. Это объясняется рядом причин.
Во-первых, распад СССР произошел в результате экономического и политического кризиса, который во всех республиках был порожден одними и теми же причинами, развивался в основных своих параметрах одинаково. Поэтому процесс обретения независимости, проходивший в рамках этого кризиса, был практически во всех республиках однотипным.
Во-вторых, политические, экономические, идеологические и другие реалии во всех республиках были унифицированы, в течение многих десятилетий везде и все делалось «под одну гребенку», по указке «центра», что предопределило сходность политической ситуации во всех республиках.
В-третьих, развитие событий в национальных республиках зависело в решающей мере от развития событий в центре. Как известно, в СССР центр не очень считался с республиками, сами они были приучены не проявлять инициативы, а ожидать указаний сверху. Поэтому сценарий обретения независимости республиками во многом по инерции воссоздавал то, что происходило в Москве.
В-четвертых, ни в Кыргызстане, ни в Украине не было значительных политических сил, имевших четкую программу борьбы за независимость и способных ее возглавить. Обретение независимости проходило в большей степени стихийно, а стихийность предопределила сходность процессов в обеих республиках.
Вместе с тем с первых же дней независимости обнаружились и существенные различия между Кыргызстаном и Украиной в понимании и определении путей строительства собственной государственности, промежуточных экономических и политических этапов на пути к реальной независимости, в темпах достижения промежуточных целей. Это объясняется разным уровнем политической зрелости кыргызстанского и украинского обществ, разной степенью осознания политическими силами обоих государств первоочередных задач и путей их решения, разным уровнем сплоченности и готовности народов этих стран следовать по новому пути. Представляется, что украинское общество к моменту обретения независимости оказалось более политизированным и в силу этого более разобщенным, а это привело к острой политической борьбе, которая отвлекала внимание от насущных проблем государственного строительства. Кыргызское общество в силу недостаточной политизации было избавлено от необходимости разбираться с различными политическими силами, которые мало отличались между собой своими программами, но амбициозно заявляли, что только они знают, как быстро и легко прийти к светлой и богатой независимости. К сказанному следует добавить, что в Кыргызстане появился новый авторитетный и решительный лидер, сразу же завоевавший поддержку демократических сил и широкой общественности – А. Акаев, ставший в 1990 г. Президентом нового государства.
Слабая политизированность кыргызского общества и наличие общепризнанного национального лидера положительно сказались на решении ряда важнейших задач государственного строительства в Кыргызстане. Во всяком случае здесь конституционный процесс развивался, как представляется, интенсивнее, чем в Украине.
Рассмотрим более подробно особенности конституционого процесса в Кыргызстане и Украине.
III. Нелегкий путь к новым конституциям
Правовой основой любого демократического государства является законодательство, определяющее государственный и политический строй, свободы, права и обязанности граждан, систему власти и принципы ее разделения, формы собственности, принципы внешней политики, государственную символику и др., регулирующее общественные отношения, прежде всего отношения между государством и гражданским обществом и др. Поэтому перед молодыми государствами со всей остротой встал вопрос разработки и принятия новых конституций. Ведь конституции бывших Киргизской и Украинской Советских Социалистических Республик, разработанные на основе Конституции СССР 1977 г., не отвечали новым реалиям, хотя юридически и продолжали действовать.
Естественно, новые государства не имели достаточного конституционного опыта. И, как отмечал известный американский специалист в области конституционного права Б. Г. Сиган, «еще неизвестно, как приживется у них власть закона. Однако эти страны почти не имеют выбора. Решив переходить к экономике, базирующейся на частных рыночных силах, они должны теперь защитить эти системы законодательно… Их конституции как важнейшие юридические документы должны отражать и развивать их теперешнюю ориентацию на свободное общество». И дальше: «В построении своих конституций освободившиеся нации и республики должны руководствоваться принципом свободы.
Конституция – это важнейший юридический документ для страны, которая признает силу закона… Скинув тиранию, народы… сохранили и спасли права, дарованные им как человеческим созданиям. Теперь они должны навечно закрепить эти права в конституциях»[53].
Верховные советы Кыргызстана и Украины как высшие законодательные органы осознавали, что разработка и принятие новой конституции, тем более для нововозникшего государства, – процесс трудный и длительный. Ведь конституции не могли просто зафиксировать сложившееся, они должны быть как бы нацеленными в будущее, прогнозировать его, но прогнозировать с высокой определенностью, чтобы не превратиться в утопию. А ситуация резко изменилась и должна была изменяться дальше. Новые конституции должны опираться на новую методологическую основу, учитывать мировой конституционный опыт. В то же время они не могли игнорировать собственный исторический опыт, традиции народа, особенности нового государства. Все это надо было глубоко осмыслить и перевести в четкие конституционные нормы, что требовало определенного времени.








